Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1966
ГЛАВА I
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ РУССКИХ ПЕДАГОГОВ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ ОРФОГРАФИИ
Психолог, исследующий проблемы обучения, не может при обзоре истории вопроса обойти вниманием труды педагогов и методистов. Это вполне естественно, так как отрасль собственно педагогической психологии возникла лишь на рубеже XX в., в то время как педагогика имеет за собой многовековую давность. Изучая работы педагогов и методистов, исследователь получает возможность представить себе картину исторического развития данной отрасли обучения, на фоне которой отдельные проблемы, возникавшие перед педагогикой, представляются в своем истинном значении, и выявить основные тенденции развития методической мысли.
Изучая историю методики, психолог не только знакомится с конкретным содержанием обучения и частными приемами и методами, применяемыми при обучении, но и находит, что особенно ценно, их теоретическое обос» пование. В дидактических обобщениях отдельных приемов и методов обучения психологические взгляды исследователей играют, как правило, весьма важную роль, так как всякая педагогическая теория в той или иной степени связана с определенной психологической теорией, а каждый педагог, имея дело с воспитанием детей, в той или иной степени является психологом. Поэтому вместе с К- Д. Ушинским мы можем сказать, что педагогическая литература представляет для изучения психологии значительный интерес; потому что «она знакомит нас с психологическими наблюдениями множества умных и опытных педагогов и, главное, направляет нашу собственную мысль на такие предметы, которые легко могли бы ускользнуть от нашего внимания» '.
Для нашей работы эти теоретические высказывания приобретают особое значение в связи с тем, что в методике орфографии психологические проблемы, пожалуй, как ни в какой другой области, нашли наиболее яркое выражение. Начиная с 40-х годов прошлого века и до самого последнего времени, среди методистов шла упорная борьба по вопросам о наилучших методах преподавания. При этом выявились две разные школы, два различных направления: «грамматическое» и «антиграмматическое», получившие эти названия из-за различного отношения их сторонников к роли грамматики в обучении орфографии. Однако, как мы увидим в дальнейшем, такое, как будто чисто методическое, разногласие определялось глубокими расхождениями в основных методологических позициях сторонников того и другого направления. Поэтому изложению психологических основ обучения орфографии мы сочли необходимым предпослать краткий обзор психологических взглядов наиболее видных методистов, представителей того и другого направления.
Поскольку мы не задаемся целью дать исчерпываю-щий исторический обзор развития методики орфографии, а интересуемся лишь психологической стороной вопроса, наше дальнейшее изложение будет не столько хронологическим, сколько систематическим. При этом мы сможем дать характеристику лишь тех педагогов, методическая система которых дает возможность более или менее непосредственно судить об их психологических воззрениях.
Наша задача облегчается тем, что четко наметившееся разделение методистов на два лагеря дает нам возможность сосредоточить внимание на взглядах лишь наиболее ярких представителей того или другого методического течения, что вполне достаточно для того, чтобы получить обобщенное представление о тех психологических теориях, которые привлекались педагогами для обоснования приемов обучения орфографии.
1 К Д Ушинский. О пользе педагогической литературы, Избр. пед. соч. Учпедгиз, М , 1945, стр. 42.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Психологические взгляды К. Д. Ушинского
Основоположником и блестящим выразителем идей грамматического направления является К. Д. Ушинский, который, будучи замечательным педагогом-практиком, составителем учебных книг для начальной школы («Детский мир», «Родное слово»), переиздававшихся сотни раз, автором методических руководств для учителей, заложивших основы научной педагогики, был вместе с тем квалифицированным психологом, которого с полным правом можно считать создателем русской педагогической психологии. В своем капитальном труде «Человек как предмет воспитания» он впервые в истории русской педагогики рассматривает психологию как основу педагогической практики. Борясь с остатками схоластики в школе, с формально-рецептурной педагогикой, Ушинский призывал учителей изучать законы человеческой природы, расценивать ту или иную педагогическую меру в свете этих законов, а не действовать вслепую, целиком полагаясь на мнения авторитетов.
Быть хорошим воспитателем человеку, не обладающему психологическим тактом, невозможно. Но психологический такт – «темное психологическое чувство», субъективное и непередаваемое. «По невозможности передачи психологического чувства и сама передача педагогических познаний, на основании одного чувства, становится невозможной. Тут остается одно из двух: положиться на авторитет говорящего или узнать тот психологический закон, на котором основывается то или другое педагогическое правило» '. Поэтому, но мнению Ушинского, «изучение психологии как науки является краеугольным камнем педагогики»2. * »
Призывая учителей судить о педагогических воздействиях по их психологическому значению, Ушинский в своих методических работах реализует этот принцип, психологически обосновывая рекомендуемые им методы обучения. Поступает он так же и по отношению к обучению орфографии. Его взгляды по этому вопросу органически вытекают из его понимания психологической природы человеческих навыков.
1 К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания, Соч.,
т. 8, изд. АПН РСФСР, М., 1950, стр. 48.
2 Т а м же, стр. 277.
Ушинский, в согласии с установившейся в его время традицией, делил двигательные реакции человека на непроизвольные и произвольные движения. Первые из них он называл полными рефлексами и полурефлексами. Эти рефлексы носят врожденный характер или, как говорит Ушинский, «установлены в нас самым устройством нашего организма». Полные рефлексы – это неощущаемые движения. Они «совершаются не только вне нашей воли, но и вне нашего сознания». Полурефлективные движения– это те, «на которых воля наша может иметь не-1 которое влияние, но которые, однако, совершаются и помимо нашей воли». Таковы дыхание, кашель, чихание и т. п.
Но, наряду с этими врожденными рефлексами, Ушинский отмечает и существование особых рефлективных движений, которые «устанавливаются уже не природой, но нами самими, и что движения, вначале сознаваемые и произвольные, делаются от частого повторения несознаваемыми и непроизвольными, наравне с рефлексами»1. Эти рефлексы Ушинский называет навыками или привычками.
«Под именем нервной привычки, в точном смысле слова, мы разумеем то замечательное явление нашей природы, что многие действия, совершаемые нами вначале сознательно и произвольно, от частого их повторения совершаются без участия нашего сознания и произвола и, следовательно, из разряда действий произвольных и сознательных переходят в разряд действий рефлективных, или рефлексов, совершаемых нами помимо нашей воли и нашего сознания»2.
Ушинский добавляет при этом, что физиологическая природа превращения произвольных действий в рефлективные остается до сих пор неизвестной, несмотря на объяснения, предлагаемые некоторыми физиологами и психологами.
Далее Ушинский, возражая против идеалистической теории Вундта о бессознательных умозаключениях интуитивного происхождения, не подлежащих дальнейшему анализу, дает материалистическое объяснение кажущейся внезапности того или другого правильного действия. Он считает, что в таком случае мы имеем дело не с чем иным, как с навыком, бывшим ранее сознательным действием при условии, что самый факт выработки нами «позабыт». К таким «позабытым» навыкам относятся Ушинским по преимуществу те навыки, которые выработаны в младенческий период.
1 К.Д.Ушинский. Человек как предмет воспитания, соч.,
т. 8, изд АПН РСФСР, М., 1950, кн. I Предисловие, стр. 189–190.
2 Т а м ж е, гл. XIII, § 4, стр. 205–206.
8
Объясняя, почему именно процесс выработки навыков в этот период «позабывается», Ушинский ссылается на то значение, которое имеет для памяти «дар слова». «Память младенца, – пишет он, – очень свежа и восприимчива; но в ней недостает именно того, что связывает отрывочные впечатления в один стройный ряд и дает нам потом возможность вызвать из души нашей впечатление за впечатлением, – недостает дара слова:.. Если привычка сделана нами, хотя и сознательно, но в тот период нашей жизни, когда мы не обладали еще даром слова, то, без сомнения, мы не можем припомнить, как мы сделали ее, хотя она в нас остается»'.
Как мы видим, теория навыка, разработанная Ушинским, отличается тем, что сознательность и автоматизм по этой теории не противопоставляются друг другу как взаимоисключающие явления, а рассматриваются как характерные черты различных стадий формирования навыка.
Такое понимание психологической природы навыков находит свое отражение и в педагогических взглядах Ушинского.
В материалах к ненаписанной им третьей части «Педагогической антропологии», которая, по мысли автора, должна была представить практическое применение общих психологических идей, изложенных им в первой и второй частях работы, Ушинский неоднократно возвращается к этой теме.
Рассматривая вопросы выработки навыков чтения и письма, он пишет: «Всякий, кто учил детей чтению, письму и началам наук, заметил, без сомнения, какую важную роль играет при этом навык, приобретаемый учащимися от упражнения и мало-помалу укореняющийся в его нервной системе в форме рефлективных бессознательных или полубессознательных движений... Здесь вы беспрестанно замечаете, что от понимания ребенком, как что-нибудь должно сделать (произнести, написать), до легкого и чистого выполнения этого действия проходит значительный период времени, и как от беспрестанных упражнений в одном и том же действии оно мало-помалу теряет характер сознательности и свободы и приобретает характер полубессознательного или бессознательного рефлекса, освобождая сознательные силы ребенка для других, более важных душевных процессов»'.
1 К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания, Соч т. 8, изд. АПН РСФСР, М, 1950, кн. 1, гл. XIII, стр. 212.
Та же идея единства «чисто рефлективных» и сознательных процессов выступает в разработанной Ушинским теории памяти. Как известно, Ушинский различал память механическую и память рассудочную. Механическая память является, но Ушинскому, «материальной основой всякого учения, как бы оно рассудочно ни было, и оказывается исключительно возможной там, где нельзя построить никакой рассудочной ассоциации, Вспоминая собственное имя, год, число жителей и т. п., мы не можем опираться на рассудок, и запоминание основывается здесь на чисто механической, рефлективной связи одной нервной механической привычки с другою...». «Из этого мы можем вывести, что рассудочная память без механической совершенно невозможна и что рассудок приводит только в новые рассудочные ассоциации следы представлений, удерживаемые и воспроизводимые механической памятью» 2.
Ушинский в равной мере критически относится как к старой, схоластической школе с преобладающими в ней методами, основанными на механическом заучивании, так и к «новой, рассудочной», пренебрегающей накоплением фактов. Он рисует картину того, что происходит в «крайне схоластической голове», и сравнивает ее с сундуком скряги, где бесполезно и для него самого и для света скрыты богатые сокровища. В этой голове «целые ворохи знаний улеглись механическими рядами, незнающими о существовании друг друга, так что противоположнейшие факты и мысли самых противоречащих свойств, которые должны бы были вступить в смертельную борьбу между собою, если бы увидели друг друга, лежат мирно в темноте». В противоположность этому «крайне рассудочная голова» напоминает ему мота, который в своем движении вперед, «спеша от одной рассудочной категории к другой, не заботится о приобретении положительных знаний, а какие приобретает, то растеривает по дороге».
' К. Д. Ушинский, Материалы к 3му тому «Педагогической антропологии» Соч., i 10, ч |д. ЛИП РСФСР, М, 1950, стр. 385–386. 2 Т а м ж е, стр. 411–416.
10
Ушинский рекомендует избрать средний путь, избегающий крайностей обоих этих направлений. По его мнению, «должно обогащать человека знаниями и, в то же время, приучать его пользоваться этими богатствами» '.
Как по отношению к навыкам, так и по отношению к памяти Ушинский, как мы видим, подчеркивает, что в основе обоих этих процессов лежит одно и то же физиологическое явление, которое он называет то «нервной привычкой», то «рефлективной связью» одной нервной привычки с другой. Сознательные процессы, которые происходят и в том и другом случае, не отделяются и не противопоставляются их материальной основе. Навыки создаются путем «беспрестанных упражнений», для запоминания нужны «постоянные повторения». Упражнения и повторения закрепляют рефлективные связи. Осмысление связывает их в «один стройный ряд», систематизирует ассоциации.
Какую же роль играет сознательная деятельность при образовании навыков, как изменяет процесс образования навыка вмешательство сознания – эти вопросы остались неосвещенными Ушинским в его теоретических трудах. Но при рассмотрении конкретных проблем обучения все пи вопросы находят свое отражение. Наиболее полно можно представить себе взгляды Ушинского по этому поводу при рассмотрении работ, связанных с преподаванием грамматики и орфографии.
Положение Ушинского о сознательном происхождении навыков позволяет ему представить себе процесс усвоения орфографии как процесс, тесно связанный с отчетливой и ясной работой мышления, направленной на анализ грамматических и орфографических обобщений.
1 К. Д. Ушинский, Материалы к 3-му тому «Педагогической антропологии». Соч., т. 10, изд. АПН РСФСР, М., 1950, стр. 420,
11
Основной проблемой был для него вопрос о соотношении в обучении орфографии правила и «механических» упражнений. Во времена Ушинского в немецкой педагогике была распространена теория, по которой основным методом выработки орфографического навыка считалось списывание. Родоначальником этой теории был немецкий педагог и дидакт Борман. По его мнению, в основе усвоения орфографии лежит процесс постепенного накопления зрительных «образов» слов, которые приобретаются учеником исключительно благодаря зрению. Поэтому Борман призывает учителей: «Оберегайте ученика со всей заботливостью от всякого вида неправильно написанного слова, пусть он со всем прилежанием запечатлевает правильные образы слов, и помогайте ему приобрести привычку эти образы слов изображать в письменном виде» '.
Эта цель наилучшим образом достигается списыванием, которое и объявлялось Борманом универсальным приемом обучения.
Другие немецкие педагоги (как, например, Дистервег), не отвергая необходимости списывания, защищали право на существование и «слуховых» методов (слуховой анализ, диктант и т. п.). Дистервег, возражая Борману, писал: «Несомненно, этим путем можно научить орфографии; тысячи научились и еще учатся сейчас. Да и сам метод весьма несложный. Наконец, надо сказать, что роль зрения при правописании отрицать никак нельзя. Но тем не менее мы не можем считать, что Борман прав, когда он отбрасывает все закономерности и все правила. Не глазу, но уху, принадлежит в языке первое место, и элементарная школа не должна учить чисто механическим путем (разрядка Дистервега.– Д. Б. )»2.
Основное возражение Дистервега, таким образом, сводится к подчеркиванию в обучении орфографии роли слуха.
Этими двумя мнениями об особенности орфографического навыка и исчерпывались основные психологические проблемы обучения орфографии. Как мы видим,
1 Борман, Простейший способ обучения орфографии, изд. 1, 1840 (на немецком языке).
2 А. Дистервег, Руководство для немецких учителей, изд. 4, 1850 (на немецк. яз.).
они сводились к различной оценке исходных восприятий, вопрос же о роли сознательности в обучении орфографии был совершенно чужд теориям типа Бормановской и остался мало разработанным у Дистервега.
Ушинский резко выступил против механического понимания психологии орфографического навыка. Дилемме «слух» или «зрение», ставшей со времен Бормана основной дискуссионной проблемой среди немецких методистов, он противопоставил свою теорию образования навыка, основанного на знании грамматики и орфографических правил.
«Некоторые из педагогов, – писал Ушинский – как, например, Борман, думают даже все изучение правописания ограничить одной перепиской с верных образцов в том расчете, что при частой переписке слов глаз, наконец, механически привыкнет видеть его написанным так, а не иначе. Но Борман забывает, что для такого изучения правописания нужно много переписывать и что переписка не только не дает голове развивающей работы, но, напротив, мешает ей работать гораздо более, чем рубка дров, ходьба или какая бы то ни была другая, чисто физическая деятельность, отчего отличные писаря, с самого детства занимающиеся этой работой, отличаются замечательным тупоумием» 1.
Не списывание, как один из возможных методов обучения орфографии, критикует, следовательно, Ушинский, а механичность приема, предлагаемого Борманом. Ушинский считает такую «переписку» неприемлемой для школы, противоречащей основным педагогическим принципам.
«Правила навыком не усваиваются, – пишет Ушинский в другом месте, – хотя и можно усвоить навыком соблюдение какого-нибудь правила, даже не имея понятия о самом правиле. Так усваивают себе орфографию писаря, много переписывающие с правильных образцов. Но такое усвоение было бы слишком длинно и тягостно для детей, если бы на помощь к нему не было призвано сознание правил, по которым пишется так, а не иначе»2.
Теоретически возможно, следовательно, по Ушинскому, выработать навык механическим путем, но этот путь
1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, М., 1945,
ар. 446.
2 Т а м же, стр. 423.
13
антипедагогичен и не эффективен. Путь, который противопоставляется Ушинским Бормановской «переписке», идет к образованию навыка через «сознание правил». «Нельзя никак сказать, – продолжает развивать эту мысль Ушинский, – чтобы без грамматики, одним навыком, еще легче было выучиться правильно писать, чем с помощью грамматики. Нужны десятки лет и беспрестанное списывание с образцов, написанных грамматически, чтобы одним навыком (курсив наш. – Д. Б.), без всякой помощи грамматических правил, выучиться писать правильно, да и то всякое новое слово будет ставить в тупик такого грамотея... Для усвоения правильного письма детьми, конечно, нужна практика, но практика, руководимая грамматикой» '.
В этой лаконичной формуле – «практика, руководимая грамматикой», – сделавшейся крылатым выражением и облетевшей впоследствии многочисленные педагогические и методические пособия, выражается самое существо теории сознательного навыка, разработанной Ушинским. Как видно, эта формула представляет собой лишь практическое применение той общей теории о непроизвольных движениях, которые ведут свое происхождение от движений, «вначале сознаваемых и произвольных».
Следует, однако, заметить, что Ушинский вступает в противоречие с этой теорией в том случае, когда, возражая Борману, признает как будто возможным образование у человека чисто механической привычки. Несомненно, что и «переписка», приводящая к овладению грамотным письмом, не может быть отнесена, с точки зрения Ушинского, к чисто рефлективным движениям, а в какой-то мере должна носить сознательный характер.
Итак, согласно Ушинскому, в школе нужно вырабатывать навык, опирающийся на работу мысли, на усвоение грамматических закономерностей и орфографических правил.
Встает, таким образом, вопрос о работе в школе над грамматическим правилом.
Известно, что Ушинский изучение грамматики в школе рекомендовал проводить на основе наблюдения уче-
1 К. Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, М, 1945, стр. 423.
14
ников над живой речью. «Так как грамматика, – писал он, – есть результат наблюдений человека над собственным языком, а не язык результат грамматики, то самый рациональный прием изучения грамматики будет такой, при котором стараются обратить внимание дитяти на то, как он говорит, и только руководят его наблюдением над теми грамматическими законами, которым он бессознательно подчиняется в своей речи, усвоенной подражанием» '.
Ушинский считает, что задача обучения грамматике должна заключаться в том, чтобы помочь ребенку имеющийся у него богатый речевой опыт осознать с помощью грамматических правил.
Возникает, следовательно, вопрос о соотношении практических и теоретических знаний и о наилучшем способе перестройки первых в процессе обучения.
Этот вопрос Ушинский выделяет в качестве общего дидактического вопроса и рассматривает на страницах своего теоретического труда «Педагогическая антропология». Он считает, что в развитии человека рассудочному усвоению предшествует деятельность, по преимуществу проявляющаяся механическим путем, в силу законов механической памяти. Задача обучения состоит в том, чтобы привести в стройную систему усвоенные подобным образом мысли и факты. Для этой цели обучение с первых же шагов своих должно обращаться также и к рассудку в той мере, «насколько это допускается современным развитием рассудка в воспитаннике».
Наилучшим методом «перевода механических комбинаций в рассудочные мы считаем, – пишет Ушинский, – для всех возрастов, и в особенности для детского, метод, употреблявшийся Сократом и названный по (то имени «сократическим»2.
Положительной чертой этого метода Ушинский считает самостоятельность мысли ученика. Путем вопросов учитель, не сообщая ничего нового, приводит существующие ряды и группы представлений в новую рассудочную систему, заставляя их, сталкиваясь, или разру-
1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, М., 1945,
стр434.
2 К. Д. Ушинский, Соч., т. 10, изд. АПН РСФСР, М., 1950,
стр. 421.
15
шать друг друга, или примиряться в соединяющей и уясняющей мысли.
Такой метод, по мнению Ушинского, имеет то преимущество, что предохраняет от преждевременного сообщения детям тех или иных рассудочных комбинаций, которые, не будучи понятны ученикам, ложатся механически рядом с их собственными. Но, если ученики смогут даже понять мысль, объясненную учителем, она «никогда не уложится в голове его (ученика. – Д. Б.) так прочно и сознательно, никогда не сделается такой полною собственностью ученика, как тогда, когда он сам ее выработает» '.
Так излагает Ушинский метод, который в современной педагогике известен как индуктивный. Этот метод прилагается к фактам, уже известным ученикам. Путем сравнения и противопоставления этих фактов учащиеся приходят к их обобщению, к установлению существенных связей и разрушению случайных. Такой метод основывается на самостоятельной умственной деятельности учеников, в результате чего выработанные новые мысли прочно усваиваются ими.
Ушинский не ограничился теоретическим анализом индуктивного метода. Свой знаменитый учебник для начальной школы «Родное слово» он составил применительно к этому методу. В «Руководстве к преподаванию по «Родному слову» он так говорит о принципах его составления:
«Всякое наблюдение, если только возможно, руководится в нашем учебнике сначала вопросами, на которые сам учащийся должен давать ответы. Потом из этих наблюдений составляется грамматическое определение или грамматическое правило. Затем предлагается ряд упражнений, закрепляющих в памяти данное определение или правило. Если же мы полагаем, что ученик сам не может дать ответ на вопрос, предлагаемый ему учебником, то ставим тут же и ответ. Хорошо понятый вопрос есть уже половина ответа. Вот общий способ изложения, которому мы следуем в нашем учебнике» 2.
1 К. Д. Ушинский, Соч., т. 10, изд. АПН РСФСР, М., 1950,
стр. 422.
2 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, М., 1945,
стр. 435–436.
16
Итак, в результате самостоятельной умственной деятельности ученик знакомится с орфографическим правилом, основанным на грамматике. «Не нужно думать,– пишет Ушинский непосредственно о грамматике, – что наблюдение, сделанное дитятей раз, так уже с первого раза и осталось у него в голове.... В грамматике необходимее, чем в какой-либо другой области учения, беспрестанные повторения, и притом преимущественно в форме упражнений»'.
Упражнениям Ушинский уделяет много внимания. В полном соответствии со своим пониманием психологической природы навыков он видит в них ту «практику», которая необходима для их формирования. «Ученик, знающий и понимающий отлично все грамматические правила, – пишет он, – будет непременно делать ошибки в письме, если не имеет механического навыка писать правильно» 2.
«Для грамотности мало того, чтобы человек знал грамматические правила (а их множество), но необходимо, чтоб он привык мгновенно выполнять их» 3.
Следовательно, для грамотного письма нужен «механический навык», необходимо «мгновенное» выполнение правил. Эти результаты достигаются «практикой», упражнениями.
Какие же требования следует предъявить к организации этой практики в школе, для того чтобы добиться успеха? Решая этот вопрос, Ушинский на первое место выдвигает требование систематичности упражнений: «Систематичность упражнений, – пишет он, – есть первая и главнейшая основа их успеха, и недостаток этой систематичности – главная причина, почему многочисленные и долговременные упражнения в орфографии дают весьма плохие результаты»4.
Эта цитата – общеизвестна. В современных педагогических сочинениях она приводится часто, но редко кто задается при этом вопросом, на чем же, собственно, основывается это, по сути дела, догматическое утверждение Ушинского. Нередко его понимают весьма упрощен-
1 К. Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, М., 1945, стр. 434. 1 Т а м ж е, стр. 396. 'Там же, стр. 421. * Там же, стр. 440.
17
но, как требование определенной частоты повторений, достаточной тренировки и т. п. Однако, как мы видели, Ушинский о «беспрестанных упражнениях» говорит особо, здесь же он подчеркивает другую сторону этого вопроса. Повод для различного толкования дает, надо признаться, сам Ушинский, поскольку требование систематичности по отношению именно к орфографическим упражнениям он теоретически не обосновывает.
Мы полагаем, что значение систематичности для данного конкретного вида упражнений непосредственно вытекает из той роли, которую отводил Ушинский систематичности в приобретении любых знаний. Действительно, по Ушинскому, орфографический навык возникает на «рассудочной» основе, на основе грамматических знаний. Именно при помощи грамматики происходит, как мы видели, «перевод механических комбинаций в рассудочные». По поводу необходимости систематического изучения грамматики Ушинский пишет: «Только система, конечно, разумная, выходящая из самой сущности предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями. Голова, наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет» '.
Поэтому естественно полагать, что, когда Ушинский говорит о систематичности орфографических упражнений, он, в сущности, конкретизирует свой тезис о грамматическом «руководстве» формирования орфографического навыка. Орфография, по Ушинскому, следовательно, представляется не суммой разрозненных правил, а цельной системой, в которой отражены те же закономерности языка, которые формулируются грамматикой.
Таким образом, принимая все это во внимание, мы вправе были ожидать, что Ушинский раскроет те грамматические основания, на которых, как это следует из его взглядов на «руководящую роль» грамматики, следует строить систему орфографических упражнений. Ушинский действительно рекомендует такую систему для начальных классов школы, но строит ее на других основаниях.
Как известно, центральным звеном в занятиях родным языком у Ушинского является развитие речи. "Пер-
1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, М., 1945, стр. 352.
18
вая цель (преподавания русского языка. – Д. Б.) – развитие дара слова» ', – пишет Ушинский. Или еще: «Из всего нашего изложения первоначальной дидактики родного языка видно само собой, что главное, центральное занятие, вокруг которого более или менее группируются все остальные и по которому мы располагаем даже и самую нашу грамматику, есть практическое выражение в языке, устное и письменное»2.
Развитие речи сохраняет подобное центральное место и в системе письменных работ учащихся. Отдельные упражнения этой системы прежде всего служат целям развития «дара слова». Достаточно привести лишь простой перечень письменных упражнений, рекомендуемых Ушинским, чтобы стало очевидным это «основание» системы.
Первый год учения
1) Разложение слова на слоги и слога на звуки;
2) складывание слов из звуков.
3) Списывание отдельных слов с размещением их по разрядам, чтобы «не оставлять голову без работы».
4) Самостоятельное придумывание и самостоятельная запись отдельных слов, например всех птиц, которые знает ученик, и т. п.
5) Переписка этих слов, исправленных в классе, в чистовую тетрадь.
6) Письмо целых предложений в ответ на вопросы.
Второй год учения
1) Письменное изложение деловой статьи по вопросам на доске – от детализирующих вопросов к одному общему.
2) Формулировка ответов на вопросы, сначала устная, потом письменная.
3) Сравнение двух предметов (устное, а затем письменное).
4) Письмо наизусть выученного текста, с последующим самостоятельным исправлением ошибок по книге.
1 К. Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, М., 1945,
стр. 338.
2 Т а м ж е, стр. 440.
19
Третий год учения
Здесь Ушинский рекомендует целый ряд творческих, письменных работ: письменные ответы с формулировкой основных мыслей статьи, сравнительные описания, самостоятельное описание без сравнения, письменное изложение рассказов после чтения их учителем и составления вопросов к ним, составление писем по данным образцам – сначала устное, потом письменное.
После этого Ушинский пишет: «Рядом со всеми эти-ми упражнениями третьего года учения должна идти диктовка, которая в первые два года учения была бы преждевременной... . Диктант должен повторяться как можно чаще: если возможно, то через класс, но от каждого урока не должен отнимать более четверти часа»'.
Если рассмотреть отдельные упражнения в той последовательности, которую им придал Ушинский, то не трудно заметить, что здесь Ушинскому вполне удается выдержать тот основной принцип, то «основание» системы, которому должны, по его мнению, соответствовать упражнения в «даре слова».
С точки зрения развития речи можно согласиться в основном с подобной системой. Она действительно дает упражнения в порядке возрастающей самостоятельности ученика в использовании своей письменной речи. Но можно ли систему работ по развитию речи отождествлять с системой работ по орфографии? Если при решении этого вопроса исходить из воззрений на природу орфографического навыка самого Ушинского, изложенных выше, придется, несомненно, ответить отрицательно. Бросается в глаза полное игнорирование Ушинским грамматической основы орфографических упражнений, значение которой он сам же подчеркивал. Как используется в этих упражнениях грамматика, которая должна «руководить практикой»? Какие цели должны ставиться перед учеником, когда ему предлагаются те или иные упражнения? Как сочетаются в них элементы сознательности и «практики»? На это нет ответа в предлагаемых Ушинским упражнениях. Нет, потому что в них орфография подчинена задачам развития речи, а из орфографических упраж-
1 К. Д. Ушинский, Избр. иед. соч., Учпедгиз, М., 1945, стр. 450.
20
нений остается списывание (для развития механизма письма), письмо наизусть выученного и диктант, который рекомендуется проводить через день. Вопрос о соответствии и связи работ по орфографии с работами по развитию речи – вопрос сложный, до сих пор еще четко не разработанный методикой, практически разрешается Ушинским лишь в плане развития речи. Таким образом, Ушинский, отлично понимая теоретическое значение системы в орфографических упражнениях, практически оставляет этот вопрос нерешенным.
Значение, которое придавал Ушинский развитию речи, выразилось также и в его совете совмещать упражнения в орфографии с письменным «толковым изложением своих или чужих мыслей». Лишь для «учеников очень отставших,– пишет он, – следует письменное выражение своих мыслей вовсе отложить на некоторое время и ограничиваться одним устным до тех пор, пока правописание, на которое в то же время следует нажать, сделает возможным передачу и собственных мыслей на письме» '.
Однако, как это следует из общих теоретических взглядов Ушинского, основной психологический смысл систематичности он видел в постепенном нарастании самостоятельности учеников.
«Стремление души к самостоятельности» Ушинский считает непременным следствием «основного закона духа» – «душевного стремления к сознательной деятельности». Из этих изначально существующих «стремлений души» Ушинский выводит ряд «воспитательных правил», главнейшее из которых состоит в том, что «свобода (в смысле самостоятельности. – Д. Б.) воспитывается не отсутствием стеснений, но, напротив, преодолением их»... «При этом большая разница: само ли дитя преодолеет стеснение или оно будет преодолено другими» 2. Это правило имеет огромное значение для педагогики. «Воспитатель,– пишет Ушинский,– должен с самого начала предоставить питомцу как можно более самостоятельности в деле его умственных приобретений... Пусть ребенок проверяет прочтенное собственными опытами и наблюде-
1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, М., 1945, стр. 442.
s К. Д. Ушинский, Материалы к 3-му тому «Педагогической антропологии». Соч., т. 10, изд. АПН РСФСР, М., 1950, стр. 500.
21
ниями: пусть он привыкает немедленно применять каждое вновь приобретенное практическое правило и вместе с тем приучается к деятельности в тех условиях, которые он может ясно представить и оценить» 1.
Мы видим здесь, если отбросить идеалистическую терминологию о «душе» и ее «стремлениях», ту же основную мысль, которую Ушинский развивает, излагая преимущества сократического метода объяснения правила: методы обучения должны стимулировать самостоятельность мышления ученика, учитель не должен навязывать ему новых мыслей, к ним ученик должен приходить, преодолевая «стеснения» от столкновения различных на первый взгляд противоречащих мыслей. Но следует отметить и то новое, о чем говорит здесь Ушинский: самостоятельность ученика должна выражаться в его практической деятельности, в применении на практике вновь приобретенных правил. Это требование Ушинского непосредственно относится к упражнениям; оно показывает, в чем проявляется самостоятельность ученика.
Действительно, обсуждая вопросы развития речи, или, по терминологии Ушинского, развития «дара слова» путем упражнений, он писал: «Они (т. е. упражнения.– Д. Б.) должны быть по возможности самостоятельными, т. е. действительными упражнениями, а не кажущимися только... . Упражнения дара слова должны идти систематически, не должно подавлять развития этой способности чрезмерными требованиями, а всякий раз – давать такие упражнения, для выполнения которых требовались бы уже силы, приобретенные этой способностью. Всякое новое упражнение должно находиться в связи с предыдущими, опираться на них и делать шаг вперед... . Систематичность в упражнениях должна также выражаться в большем или меньшем участии, которое учитель, смотря по силам детей, принимает в их упражнениях. Чем более развивается дар слова в детях, тем меньше должен помогать им учитель, тем самостоятельнее должны быть упражнения» 2.
Здесь Ушинский конкретизирует свои общие взгляды на систематичность: для того чтобы упражнения вызы-
1 К. Д. Ушинский, Соч., т. 10, изд. АПН РСФСР, М., 1950,
стр. 472.
2 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, М., 1945,
стр. 338–342.
22
вали самостоятельность, они должны быть посильны детям, логически связаны друг с другом и должны предоставлять все больший простор деятельности учеников.
Ушинский в данном случае свои методические рекомендации относит только к развитию «дара слова», не затрагивая совсем вопроса о грамматических и орфографических упражнениях. Но поскольку он исходит при этом из своих общих представлений о важности «стремления к самостоятельности», мы полагаем, что методический принцип постепенного нарастания самодеятельности можно целиком отнести и к орфографическим упражнениям. Однако практического руководства по этому вопросу Ушинский не оставил.
Таким образом, мы можем представить, что те требования, которые предъявлял упражнениям Ушинский в противоположность бормановской «механической переписке», состоят в следующем: они должны часто повто-ряться («беспрестанные упражнения»), обеспечивать возможность применения правил, быть систематическими, с постепенным увеличением самостоятельности учеников.
Выше нам приходилось уже указывать на то, что Ушинский придавал большое значение связи преподавания грамматики с «живой речью» ученика. Грамматика, по его мнению, должна усваиваться из наблюдений ученика над теми грамматическими законами, которым он бессознательно подчиняется в своей речи. Такое значение живой речи вытекало для Ушинского из той роли, которую он отводил в обучении родному языку «чутью», или «инстинкту» языка, развитому еще в дошкольный период.
Этот вопрос затрагивал еще Буслаев. Он писал, что грамматика не может быть самостоятельной систематической наукой в первоначальном обучении, ибо в школе следует идти, подчиняясь тем же естественным законам природы, по которым до школы «узнание родного языка совершается при темном сознании, как бы инстинктивным подражанием» '. Основываясь на распространенном в его время педагогическом принципе «природосообразности», Буслаев предлагал начинать обучение систематической грамматике не ранее 10–12 лег, а до тех пор давать чисто пропедевтический курс, лишь практически разви-
1 Ф. Буслаев, О преподавании отечественного языка, изд 1, 1844.
23
вающий способность к «инстинктивному подражанию» детей. По вопросу о времени начала занятий грамматикой Ушинский расходился с Буслаевым. Возражая ему, он писал:
«...Мы можем считать доказанным, что не только бес» сознательный навык, но и изложение грамматических понятий и правил должны найти себе место в низших классах предварительно перед изучением грамматики» 1.
Именно потому, что педагог может опереться на «чутье языка» ребенка, на его речевой опыт, можно, не откладывая обучения грамматике, постепенно вести работу над осознанием грамматических правил.
Говоря о соотношении практических и теоретических знаний о языке, Ушинский писал: «В прежнее время это (усвоение грамматики.– Д. Б.) была первая и даже единственная цель; теперь она часто забывается. И то и другое вредно: исключительное изучение грамматики не развивает в дитяти дара слова, отсутствие грамматики не дает дару слова сознательность, оставляет дитя в шатком положении; на один навык и развитый инстинкт слова, во всяком случае, положиться трудно; но знание грамматики без навыка и развития дара слова также ни к чему не ведет» 2.
«Не должно забывать,– пишет Ушинский далее, – что сколько бы мы ни вносили сознательности в нашу речь, многое зависит от верности и развития нашего словесного инстинкта, ребенок четырех или пяти лет, никогда не слышавший какого-нибудь глагола, а тем менее каких-нибудь грамматических правил, по большей части начинает спрягать новый для него глагол правильно, вследствие бессознательного инстинктивного навыка. Этот инстинкт не только должно приводить в сознание грамматикой, но и усиливать его беспрестанным упражнением»3.
Те «сокровища родного языка», которыми бессознательно владеет ребенок, должны быть в процессе обучения грамматически осознаны. Но грамматические знания могут быть полезны обучению лишь в той мере, в какой
1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учепедгиз, М., 1945,
стр. 424.
2 Т а м ж е, стр. 349.
3 К- Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч. Учпедгиз, М., 1945,
стр. 351.
24
они связываются с живой речью, этим источником всяких знаний об языке. Следовательно, обучение грамматике не должно выхолащивать живого содержания, дающегося непосредственным речевым опытом ребенка, а развивать и усиливать его. Таковы основные идеи Ушинского, которые заставляли его придавать чутью языка в обучении грамматики такое большое значение. Можно без преувеличения сказать, что, не приняв этого во внимание, нельзя себе ясно представить и всей системы обучения родному языку, которой он придерживался.
Несмотря на это, мы не находим у Ушинского серьезного психологического анализа природы такого «чутья» и его происхождения. Наиболее часто он характеризует этот «инстинкт» термином «бессознательный» или «полусознательный». Лишь однажды Ушинский пытается объяснить эти термины. «Мы успокаиваем себя обыкновенно,– пишет Ушинский,– фразой, что ребенок говорит на родном языке так себе, бессознательно, но эта фраза ровно ничего не объясняет; если ребенок употребляет тот или другой грамматический оборот, делает в разговоре тонкое различие между словами и грамматическими формами,– это значит, что он сознает их различие, хотя не в той форме и не тем путем, как бы нам хотелось» '.
Говоря об элементе осознавания, который сопутствует правильному различению форм языка, Ушинский делает очень важный шаг по пути психологического анализа «чутья языка». Таким кажется нам и его замечание об иной «форме осознавания», по сравнению с грамматической, которая характерна для чутья языка. Однако естественно, что на том уровне развития психологии, на котором она находилась во времена Ушинского, дальнейшее углубление этого анализа оказалось для Ушинского невозможным. Какова природа этой другой «формы осознавания»? Каковы ее отличительные психологические черты? На эти вопросы у Ушинского нет ответа.
Влияние идеалистических идей, которое, как известно, в значительной степени отражалось на взглядах Ушинского, не позволило ему последовательно придерживаться материалистического объяснения и относительно происхождения «словесного инстинкта». Как видно из
1 К. Д. У ш и н с к и и, Избр. пед. соч., Учпедгиз, М, 1945, стр. 208.
25
приведенных выше высказываний Ушинского, чутье языка наравне с «даром слова» он рассматривает как врожденную душевную способность, как своего рода «дар», изначально заложенный в душе ребенка. Эта идеалистическая концепция стоит в явном противоречии с развитой Ушинским позднее (в «Педагогической антропологии») мыслью о том, что даже такие, с точки зрения идеалистов, «неразложимые» и наследственно передаваемые явления психики, как представления о времени и пространстве, вырабатываются в процессе индивидуального и общественного опыта.
Однако в другом месте Ушинский вносит категорические коррективы в свое первоначальное представление о происхождении языка и речи. «Не нужно большой наблюдательности и большой учености,– пишет Ушинский,– чтобы видеть, что язык, которым мы обладаем, не есть что-нибудь, прирожденное человеку, и не какой-нибудь случайный дар, упавший с неба, но – плод бесконечных долгих трудов человечества, начавшихся с незапамятных времен и продолжающихся до настоящего времени в наследственной передаче от племени к племени и от одного поколения к другому» '.
Указав, что историческое развитие языка обусловлено развитием общества, Ушинский останавливается и на онтогенезе развития речи и говорит уже не о «даре слова», об языке, «усвоенном ребенком вследствие врожденной ему подражательности и вследствие заразительности нервных рефлексов»2.
Таким образом, можно сказать, что Ушинский, преодолев влияние идеалистических теорий, пришел в конце концов к правильному материалистическому пониманию происхождения языка и речи, а вместе с тем и того «чутья языка», которое не является врожденным инстинктом, а приобретается ребенком в ходе его речевого развития.
Таков сжатый очерк взглядов Ушинского но тем вопросам, какие имеют непосредственное отношение к психологии усвоения орфографии. Из него мы можем увидеть, как глубоко и разносторонне обосновывает пси-
1 К. Д. Ушинский, Избр. под. соч., Учпедгиз, М., 1945,
стр. 425.
2 Т а м же, стр. 426.
26
хологически свою методическую систему Ушинский. Основным звеном его психологических взглядов является, несомненно, теория о сознательном происхождении навыка. Во многом предвосхищая те выводы, к которым пришла по этому поводу советская педагогическая психология, Ушинский в механичности и рассудочности навыка видит две стороны одного и того же единого, психологически очень сложного процесса овладения деятельностью, в основе которого лежит физиологический процесс выработки связи «двух или многих нервных привычек». Эти связи образуются в процессе «повторений и непрестанных упражнений». Эти повторения и упражнения могут быть «чисто механическими», но такого рода методы не должны культивироваться в школе, и поэтому с первых же шагов обучение должно обращаться и к рассудку. Очень ценна, с нашей точки зрения, теория Ушинского о «переводе механических комбинаций в рассудочные», которая раскрывает внутреннюю сторону процесса приобретения знаний. Если принять во внимание, что под механическими комбинациями Ушинский понимает, по сути дела, данные нашего непосредственного опыта, а под рассудочной деятельностью приведение в порядок этих данных под влиянием правила или вообще слова, то невольно напрашивается аналогия с современным пониманием соотношения чувственных и рациональных элементов нашего познания. Материалистически звучит и тезис Ушинского о том, что рассудочная деятельность не вносит чего-либо нового, по сравнению с тем, что предоставляется ей «механической памятью», т. е. непосредственным опытом человека, а лишь систематизирует этот опыт.
Связь данных чувственного опыта и рассудочной деятельности представляется Ушинским основой всякого человеческого знания. Поэтому, лишь непониманием или просто незнанием теории Ушинского можно объяснить выступления некоторых критиков (например, Фармаковского, 1907 г.), пытавшихся доказать, что Ушинский якобы является сторонником механического образования навыка, поскольку он главное значение придавал привычке и будто бы совершенно непоследовательно наряду с этим признавал и правила.
Все то, что мы говорили о взглядах Ушинского, свидетельствует, напротив, что та руководящая роль, которую он отводил грамматическим правилам, органически выте-
27
кает из его психологических воззрений на процесс усвоения знаний, в том числе и на выработку орфографического навыка.
Грамматические знания, оказывая свое регулирующее влияние на весь ход формирования орфографических навыков, в свою очередь возникают из данных непосредственного речевого опыта, из наблюдений за явлениями живой речи учеников, в «какой-то форме» осознаваемых ими.
Перевод в разряд «рассудочных комбинаций» результатов непосредственного наблюдения рисуется Ушинским как активный процесс самостоятельного мышления ученика, направляемый учителем. (Вспомним требование Ушинского: «Чем меньше помощи, тем лучше».) Знание правил должно закрепляться «беспрерывными упражнениями». Но упражнения рассматриваются Ушинским не только как простые механические повторения одних и тех же движений письма. Такие упражнения, несмотря на их многочисленность, не могут обеспечить необходимого школе эффекта. Упражнения должны давать простор самодеятельности ученика, точно так же, как это происходит при усвоении нового правила. Поэтому они должны быть систематическими, т. е. следовать в таком порядке, который мог бы обеспечить постепенно нарастающее повышение самостоятельности учеников.
Ушинский не раскрывает того, каким образом различные уровни самостоятельности можно обеспечить при обучении орфографии, но совершенно несомненно, что достижение самостоятельности возможно лишь в том случае, когда процесс выполнения упражнений носит сознательный характер. Достижение самостоятельности, по Ушинскому, не зависит от того, в какой форме фиксируются в памяти учеников те или иные языковые факты, поэтому для него традиционная проблема того времени – «слух» или «зрение»,– предлагаемая в такой общей форме, не имела принципиального значения. Действительно, как мы видели, среди рекомендуемых Ушинским упражнений находятся и диктант, и списывание, и письмо наизусть.
Заслугой Ушинского является выдвижение вопроса о роли в обучении «чутья языка». Психологический анализ всех фактов, относящихся к этому вопросу, был, как мы видели, недостаточен, но в общем педагогическом плане
28
требование Ушинского связывать преподавание грамматики с «живой речью» учащихся и до сего времени не потеряло своей актуальности в борьбе со всякого рода пережитками схоластических методов обучения.
Таковы в общих чертах те основные психологические вопросы, которые разрабатывались Ушинским и которые легли в основу грамматического направления. Богатство и глубина идей педагогической системы Ушинского определили то огромное влияние, которое она оказала на последующее развитие методической мысли. Целый ряд виднейших педагогов продолжал дальнейшее развитие идей, высказанных Ушинским. К рассмотрению их взглядов мы и переходим в дальнейшем изложении.
Психологические взгляды последователей К. Д. Ушинского
Сторонников грамматического направления, созданного Ушинским, несмотря на некоторые отличия их взглядов, объединяла его теория о сознательном происхождении орфографического навыка и признание ведущей роли грамматики в обучении орфографии.
«Правописание получает практическое значение только с того времени, когда пишущий получил возможность писать правильно без участия сознания, т. е. когда знание перейдет в навык»1, – пишет известный педагог Н. А. Корф. В полном соответствии с теорией Ушинского Ф. Ф. Пуцыкович формулирует то же самое: «Навык действительно необходим, но навык разумный, навык, идущий следом за знанием, из него вытекающий и на нем основывающийся»2.
Естественно, что, разделяя идею Ушинского о «разумном навыке», последователи Ушинского придавали большое значение вопросу об усвоении грамматических знаний и правил, необходимых при обучении орфографии. Особенно полно и систематично излагает свои взгляды по этому поводу блестящий теоретик и практик Д. И. Тихомиров.
Тихомиров представляет себе ребенка, «который мыслит и говорит, нимало не подозревая, что совершает это в силу логических законов и грамматических правил», и
1 Н. Корф, Первоначальное правописание, Спб., 1882.
* Пуцыкович, Уроки русского правописания, Спб., 1889.
29
считает, что задача школьного обучения – внести принципиально новое в подобное положение вещей. «Грамматическое учение с первого же шага ставит целью изучение языка, правил, законов, форм языка, т. е. изучение отвлеченного; грамматическое учение требует сознательного отношения к тому, чем ребенок владел бессознательно»1,–таково назначение грамматики, по Тихомирову.
Он не преуменьшает тех трудностей, с которыми должен встретиться педагог, ибо «та область и формы мышления, которые характеризуют дошкольный период жизни ребенка, диаметрально противоположны той области и тем формам мышления, в которые вводит и в которых упражняет ребенка грамматическое обучение». Тихомиров хорошо понимает, что «нельзя безнаказанно сразу перетащить ребенка из одной области мышления в другую, ей противоположную». Он предупреждает педагога, что «неумелый подход к изучению грамматики может не только не принести пользы для умственного развития ребенка, но породить неестественное, преждевременное, скороспелое развитие, может иссушить ум ребенка, может послужить смертью для дальнейшего правильного роста».
Если грамматическое учение остается вне понимания ребенка, то он лишь механически заучивает определения и правила, и в лучшем случае ученики «вместо развития мыслительных способностей получают лишь некоторое развитие памяти». Для того чтобы изучение грамматики шло на пользу развития ребенка, требуются методы, соответствующие как особенностям самого предмета, так и силам ученика. Такой метод и предлагает Тихомиров.
Особенность грамматики, по мнению Тихомирова, заключается в том, что она является системой понятий, которые накапливались в результате «вековых наблюдений над языком». Передать выводы из этих наблюдений нетрудно, но понять их, разумно усвоить – для ребенка нелегкая задача. Естественный путь к их сознательному усвоению – участие в этом наблюдении, организованное школой. «Отвлеченные понятия и общие правила,– пишет Тихомиров, – могут быть разумно усвоены только тогда, когда ясно сознан тот материал, на котором вырабатывалось понятие, когда хорошо изучены те частные
1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить па уроках .родного языка, изд. 11, 1908, стр. 203.
80
факты, кои послужили основанием для вывода общего правила». И дальше: «Для полноты восприятия, для правильности и прочности усвоения грамматических знаний нужно сделать ученика участником в наблюдении над языком, нужно вести его по тому же пути, по которому шло человечество, созидая грамматику». Таким образом, исходной точкой в восприятии грамматических знаний должно служить не сообщение и объяснение грамматического термина, не сообщение готового определения и правила, а наблюдение над языком. Отсюда Тихомиров формулирует свое первое положение: «Приводи к грамматическому знанию через наблюдение» '.
Но наблюдение дает лишь разумение, как говорит Тихомиров. Для дальнейшего усвоения недостаточно одного лишь заучивания определений и правил, нужны практические упражнения. Тихомиров так раскрывает роль упражнений в процессе обучения: «Переходя от наблюдения над живой речью к обобщению, к определению, к правилу, ученик мыслит от частного к общему. После сообщения грамматического понятия, после вывода правила ученик упражняется в применении общего к частному; исходя из общего понятия, ученик частный факт подводит под общее понятие или правило»2.
Так Тихомиров приходит к своему второму выводу: «Приобретенные через наблюдения знания тотчас же применяй к практике».
Мы видим, что Тихомиров развивает в основном те же идеи, что развивал и Ушинский при анализе «сократического» метода. Интересно, однако, с психологической точки зрения подчеркивание Тихомировым различия психологической природы практических языковых знаний ученика и соответствующих грамматических понятий.
По словам Тихомирова, они «диаметрально противоположны» друг другу, так как грамматические знания всегда носят отвлеченный характер. Он не развивает этой мысли более подробно, но предупреждает учителя об опасности чисто вербального усвоения определений и правил в том случае, когда оно не подготовлено непосредственными наблюдениями над фактами языка и их
1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного
языка, изд. 11, 1908, стр. 207,
2 Т а м же, стр. 214.
31
анализом, так как нельзя безнаказанно «перетащить ребенка из одной области мышления в другую».
Четко и определенно формулирует Тихомиров свое правило о связи между грамматической теорией и практикой ребенка: грамматические знания должны быть «тотчас же» применены к практике. Под практикой Тихомиров, так же как и Ушинский, подразумевает упражнения. Роль упражнений двойная. С одной стороны, они необходимы для того, чтобы «правописание стало бессознательной привычкой», с другой стороны, они нужны и для полного усвоения самого правила, потому что пер-' вое знакомство с правилом, как бы ни было оно хорошо подготовлено, дает, по Тихомирову, только «разумение».
«Грамматические знания, – пишет по этому поводу Тихомиров,– могут служить средством к правильному письму только при условии полнейшего их усвоения; а такое усвоение приобретается временем, путем продолжительных упражнений».
Как мы видели, вопрос об орфографических упражнениях у Ушинского остался недостаточно разработанным. Его последователи восполняют этот пробел. Они, так же как и Ушинский, считают, что в орфографии не может быть какой-либо универсальной формы упражнения, подобно пресловутому списыванию с правильных образцов. Но они более определенно, чем Ушинский, выбор упражнения ставят в зависимость от языковых особенностей орфограммы.
Тихомиров, например, пишет, что «форма для орфографических упражнений определяется сущностью того случая, над которым должен упражняться ученик» '.
Еще более точно определяет упражнение Аполлос Соболев: «Учитель,– пишет он,– на практике должен прежде всего и главным образом иметь в виду свойство орфограммы и отношение ее к сознанию ученика и уже в зависимости от этого выбирать то или другое упражнение и способ ведения его... Одно и то же упражнение в одном случае может быть очень пригодным и полезным, а в другом – неуместным и вредным»2.
1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного
языка, изд. 11, 1908, стр. 291.
2 А. С о б о л е в, Критический обзор способов обучения право
писанию, Спб., 1900, стр. 82,
32
При обучении орфографии могут найти себе место как упражнения, основанные на слуховых впечатлениях, так и упражнения, в основе которых лежит списывание. Тихомиров, например, перечисляет целый ряд орфограмм, не подчиняющихся правилу, правописание которых должно основываться или на слухе, или на зрении. Упоминает Тихомиров и о случаях в орфографии, «где руководителем является смысл речи».
Но наиболее важным, по его мнению, является руководство правилами. Здесь, наряду со старым испытанным приемом – диктовкой, грамматическое направление выдвигает на первое место упражнения в виде «орфографических и грамматических задач».
В этих «задачах», как отмечает Тихомиров, «вполне должна найти себе место самодеятельность ученика» 1.
«В наблюдениях над примерами и в выводах из этих наблюдений ученик работает не самостоятельно, а под руководством учителя; в упражнениях же предоставляется полный простор его самодеятельности (разрядка Тихомирова.– Д. Б.)... . Замечено, что эти упражнения нравятся детям: удовольствие ребенка и объясняется его самодеятельностью» 2.
Что надо понимать под этой самодеятельностью, Тихомиров раскрывает следующим образом: «Ребенок только тогда воспользуется известным ему правилом, когда он в состоянии будет предварительно верно ответить самому себе на поставленные им же самим вопросы. К какому отделу правил относится данный случай правописания? К какому разряду слов относится данное слово? Какая это форма? Какое правило правописания относили к этой форме? Таким образом, пользование правилами обусловливается твердостью знаний грамматических: тол ь к о отчетливое знание грамматических форм дает ответы на вопросы орфографии»3 (разрядка Тихомирова.– Д. Б.).
Такая «самодеятельность» ученика в упражнениях возникает тогда, когда эти упражнения дают ему возможность применения изученных ранее правил. В этом – манное для выбора формы упражнений.
1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного
языкa, изд. 11, 1908, стр. 289.
2 Т а м же, стр. 214.
3 Т ам ж е, стр. 286.
33
Таким образом, последователи Ушинского ввели в теорию упражнений много нового по сравнению со своим учителем. Если Ушинский «основание» системы упражнений видел в развитии речи, то для последователей Ушинского основной смысл упражнений – решение орфографических задач. При этом упражнения могут принимать различные формы, в том числе и различные формы диктовки и списывания. Выбор этих форм зависит от особенностей данного орфографического обобщения, и потому они могут быть очень разнообразными.
На разработку отдельных видов упражнений большое влияние оказал выдвинутый Тихомировым принцип «уединения трудности». Исходя из психологических соображений о трудности одновременного решения нескольких задач, он предложил на первых порах обучения какому-нибудь правилу предлагать такие упражнения, при выполнении которых ученику нужно было самостоятельно писать лишь орфограммы на пройденное правило.
Так появилась своеобразная форма списывания, при которой основной текст предъявлялся ученику в правильном виде, но на месте отдельной буквы оставлялся пропуск, ставился знак вопроса или крестик. Заполнить эти пропуски и надлежало ученикам. Развивались и многообразные формы диктантов: предупредительный диктант с последующим орфографическим разбором, выборочный диктант и т. п. В осуществлении принципа «орфографической задачи» появились различные «задачники по правописанию».
Таким образом, можно сказать, что основное внимание «грамматистов», последователей Ушинского, было обращено на разработку теории и практики орфографических упражнений. Был установлен принцип разнообразия упражнений в зависимости от различного характера орфограмм, а в отношении орфограмм, подчиняющихся правилам, в осуществление принципа самостоятельности была предложена основная форма упражнений – «орфографическая задача». Практически это привело к тому, что методика орфографии в ближайшие годы после смерти Ушинского обогатилась самыми разнообразными приемами обучения орфографии, многочисленными видами упражнений. Если, как мы помним, Ушинский в свое время мог рекомендовать как частные приемы обучения лишь списывание, слуховой диктант и письмо наизусть,
34
то к началу XX в. были разработаны почти все те методические приемы, которые и до сих пор используются в советской школе.
В этом мы видим огромную прогрессивную роль, которую сыграли последователи Ушинского в развитии методики обучения орфографии в русской школе.
Но следует отметить два принципа, выдвинутых Ушинским и не нашедших у его последователей достаточного развития. Это вопросы о системе упражнений и о связи преподавания грамматики и орфографии с «живой речью». А между тем оба эти вопроса постоянно вставали перед школьной практикой. Дальнейшая разработка новых методических приемов и видов упражнений проходила чисто эмпирическим путем, без надлежащего осмысления всей системы приемов в целом. Отдельные авторы методик сводили изложение вопросов орфографии к механическому перечислению «приемов» обучения. Учителя часто терялись перед такими «коллекциями», не зная, что же им выбрать из всего этого богатства. Тот же А. Соболев указывал на бессистемность предлагаемых учителю методических приемов. «Следует,– пишет он,– требовать от руководства, чтобы оно указало главное основание, из которого логически вытекают различные практические советы и наставления, как вести дело, оно (руководство) сообразно со своим названием должно дать учителю руководящее начало, путеводную нить, чтоб он не затерялся в лабиринте... бесчисленных по разнообразию приемов, какие существуют в школьной практике при обучении орфографии» '. Подобное положение, создавшееся в школе, указывает, несомненно, на отставание разработки теории обучения от возросших потребностей практики.
Второй недостаток этого этапа развития методики заключался в том, что Тихомиров и многие другие сторонники грамматического направления, занявшись разработкой вопроса о связи орфографических упражнений с
грамматикой, впали в крайность, противоположную взглядам Ушинского. Орфографические упражнения оказались у них оторванными от творческих работ по развитию речи. И практика скоро вскрыла ошибочность их позиций. Многие учителя, добросовестно изучавшие с
1 А. Соболев, см. цитированную выше работу, стр. 30.
35
учениками орфографические правила и проделавшие с ними много упражнений по учебникам Тихомирова, Пуцыковича и других «грамматистов», стали замечать, что их ученики хорошо пишут диктанты, но не справляются с орфографией в изложениях и сочинениях. Этот факт не нашел у грамматистов теоретического объяснения. Тогда среди практиков возникло движение «в защиту живого слова» (В. П. Шереметевский и др.).
Правильная критика этого недостатка методической системы грамматистов была, однако, перенесена, и уже неправильно, на основной принцип грамматического направления–на принцип обучения орфографии на грамматической основе. Так постепенно, в противовес грамматическому направлению, в методике орфографии начали развиваться «антиграмматические» взгляды.
АНТИГРАММАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Зарождение антиграмматического направления в методике орфографии – вопрос мало исследованный. Существующие обзорные работы (В. Фармаковский– 1907 г., Н. Державин–1923 г.) связывают появление анаграмматических тенденций с именами Н. Бунакова, К. Житомирского и И. Соломоновского. Однако эти сведения по меньшей мере неполны, поскольку в этом перечислении совсем не упоминается имя такого крупного педагога, как Шереметевский.
Первые выступления противников грамматической школы относятся исследователями к 80–90 гг. прошлого столетия. К концу же первого десятилетия 900-х годов мы встречаемся уже с цельным «антиграмматическим» направлением методики орфографии, вполне оформившимся и оказывающим большое влияние на практику. Такой быстрый расцвет новых методических идей, подвергших сомнению основной методический тезис грамматистов о роли грамматики и правил в обучении, обусловливается, по нашему мнению, тем, что критика теории и практика грамматического направления шла почти одновременно от практики, от лингвистики и от буржуазной, так называемой «экспериментальной» психологии.
Для того чтобы выяснить психологические основания этой критики, следует рассмотреть все эти основные линии.
36
Возражения практического характера мы находим у Бунакова, Шереметевского и Соломоновского.
Известный педагог и методист Н. Бунаков излагает свои взгляды по этому вопросу в методическом руководстве «Родной язык, как предмет обучения в начальной школе» '.
Бунаков не отрицает необходимости изучать грамматику, но полагает при этом, что судьба орфографии зависит более от навыков, нежели от твердого знания правил. Это, как думает Бунаков, легко видеть каждому: мы пишем «доброго», вопреки произношению, не потому, что каждый раз принимаем во внимание историческое происхождение этого окончания и основанное на нем грамматическое правило, а потому, что привыкли так писать,– сама рука, помимо сознания, пишет правильно.
Вредным для школы Бунаков считает злоупотребление диктовками и пренебрежение работами творческого характера. В школе создается положение, как будто «правописание составляет единственную цель всех письменных школьных занятий, а не употребление языка как орудия и средства для выражения собственных мыслей пишущего».
Ограничение письменных работ диктовкой, свидетельствует Бунаков, приводит к тому, что ученики, безошибочно пишущие под диктовку, оказываются весьма безграмотными в собственных сочинениях и письмах. Поэтому применение диктанта в качестве формы проверки грамотности не достигает цели. Но тем не менее Бунаков не возражает против применения диктовки наряду с другими письменными работами, так как диктант «приучает детей схватывать чужую речь, так сказать, на лету и переводить ее с возможной скоростью на бумагу».
Таким образом, во взглядах Бунакова мы находим прежде всего совершенно правильную критику таких методов преподавания орфографии, которые отрывают ее изучение от работ, связанных с развитием речи. Как мы видели, такой точки зрения придерживался и Ушинский, и она сама по себе не затрагивает грамматических основ
1 Н. Бунаков, Родной язык как предмет обучения в начальной школе, изд. 10, Спб., 1887.
37
методики орфографии. Эта критика касается лишь недостатков практики грамматического направления, которые выразились, как мы уже отмечали, в пренебрежении, одним из важнейших принципов методической системы Ушинского – связи орфографических работ с работами творческого характера.
Более существенными в этом отношении являются те рассуждения Бунакова, в которых он касается психологических основ обучения орфографии. Сама постановка вопроса о том, что важнее – «правило» или «навык», является сама по себе несовместимой с психологической теорией навыка Ушинского. После тонкого психологического анализа, который лежал в основе его теории, наивной и эмпирической должна показаться попытка Бунакова судить о психологии орфографического навыка по характеру конечного продукта уже автоматизированной деятельности. Однако именно на подобном механическом противопоставлении «сознания» и «навыка» и на суждении о психологической природе навыка по характеру письма грамотного человека основаны, как мы увидим дальше, наиболее существенные «теоретические» возражения большинства сторонников антиграмматического направления.
Другим представителем «раннего антиграмматизма» был В. П. Шереметевский. В истории методики он известен как ярый противник диктовок и защитник «живого слова». В основе критики «диктантомании», царящей, по мнению Шереметевского, в школе, лежит, как и у Бунакова, правильная мысль о необходимости не забывать при обучении орфографии основной цели – развития речи. С этой стороны его критика не содержит еще ничего «антиграмматического». По у Шереметевского осуждение диктовок имеет под собой не только практическую, но и теоретическую почву. Так как в методиках эта сторона взглядов Шереметевского нашла лишь незначительное освещение, мы остановимся на ней более подробно.
Дело в том, что Шереметевский снова возрождает на русской почве дискуссию о преимуществах «слуха» или «зрения», несостоятельность которой, как казалось, была уже достаточно доказана работами Ушинского и его последователей. Сам Шереметевский при этом решительно заявляет себя сторонником зрения.
38
В шутливой форме свои взгляды он выражает в следующем четверостишии:
Когда в руке перо Пусть ухо Будет глухо, Но зрение остро.
Ту же мысль он выражает в тезисах своего доклада «Об орфографии вообще и о письме под диктовку, как упражнении элементарном, в особенности», прочитанном им в 1883 г. «Орфография есть искусство графическое (зрительное), а потому письмо со слуха под диктовку вообще нецелесообразно». А отсюда следует вывод: «Упражнениями, более целесообразными для основания грамотного письма в элементарном возрасте, следует признать те, которые развивают именно память зрения и зоркость орфографическую» '.
В этих положениях ярко проявляется тенденция вновь свести весь вопрос об усвоении орфографии к проблеме «слуха» или «зрения» при игнорировании сознательных процессов мышления ученика. Такая точка зрения логически приводит к неправомерной универсализации приемов обучения в зависимости от формы восприятия: если все дело в «зрении», то наилучшим методом должно быть списывание. Вместе с этим полностью исключается возможность дифференцированного подхода к орфограммам, намеченного в общих чертах последователями Ушинского. А между тем именно дифференциация языковых особенностей орфограмм позволила Тихомирову и Соболеву практически опровергнуть кажущуюся несовместимость слуховых и зрительных методов.
Хотя Шереметевский и не говорит ничего о механической природе усвоения орфографии, тем не менее преувеличенная оценка роли «зрения» приводит его к недооценке роли грамматики.
С одной стороны, он признает полезность в начальной школе таких упражнении, как, например, этимологический анализ состава слова (основа, окончание, корень, суффикс, приставка), подбор слов разных корней, группировка слов по разрядам (части речи) и т. п. Смысл таких упражнений, по сути дела, заключается в
1 В. П. Шереметевский, Соч., М., 1897, стр. 33.
39
том, что они подготавливают последующее грамматическое обобщение. Но Шереметевский боится всякой «теории". Он предлагает оставлять знания ученика на «практическом» уровне. Он пишет, что при обучении грамматике, на всем протяжении начальной школы надо соблюдать следующие условия: «1) чем меньше теории, тем лучше,
2) чем позднее начинается изучение теории, тем лучше,
3) чем медленнее идет изучение теории, тем лучше»1.
В таком чересчур осторожном отношении к теории
Шереметевский расходится с Ушинским, который считал необходимым рассматривать подобного рода упражнения лишь как подготовку для перевода практических знаний в «рассудочные».
Недооценка Теории остается характерной для Шереметевского и по отношению орфографии. Для правописания корней слов, в связи с выдвигаемой им идеей «корнесловной или этимологической грамматики», он, по-видимому, признавал возможность грамматических обобщений. Так, например, в одном месте он бросает вскользь замечание, что «орфография слова есть не что иное, как биография слова». Но, делая такое исключение для правописания корней слов, он ничего не говорит о роли грамматики при усвоении правописания других морфем. Не упоминает он и об «орфографических задачах», дающих возможность сознательного применения грамматических знаний. По-видимому, кроме правописания корней, вся остальная часть орфографии должна усваиваться, по мнению Шереметевского, «зрительной памятью». По крайней мере, составителям учебников он дает следующий совет: «Составителям, не пренебрегающим зрением, я посоветовал бы составить пособие с таким заглавием: «Прописи правописания, сборник примеров на главнейшие правила для упражнения в списывании с книги и с памяти», пожалуй, с таким эпиграфом: «Не верь уху, а верь глазу: ибо свой глаз – алмаз. Если орфография, как и каллиграфия, есть искусство графическое, то, по моему разумению, и пособия для нее должны быть прописи» '2.
Кроме Шереметевского, среди первых противников грамматической школы следует отметить И. Соломонов-
1 В. П. Шереметевский, Соч., М., 1897, стр. 139. 3 Т а м ж е, стр. 30.
40
ского, который развивал более радикальные взгляды. В своей ранней статье, опубликованной в 1883 г.1, он выступает против грамматики как основы обучения орфографии. «Требовать применения правил орфографии для детей, не умеющих письменно излагать своих мыслей, то же самое, что требовать знания грамматики от субъекта, не умеющего говорить. Научите попугая или годичного ребенка грамоте, и я поверю, что диктовка полезна для орфографических и стилистических целей». В своих более поздних статьях2 Соломоновский приходит к выводу, что орфография усваивается чисто механическим путем и что изучение правил приносит лишь вред. Он приводит пример, когда одна учительница, обучавшая, по совету автора, без правил, под влиянием товарищей по школе все же одно правило сообщила ученикам. В результате она пришла к выводу, что это не пошло на пользу ученикам. Соломоновский пишет дальше: «Я объяснил ей, что так всегда бывает, что после второго правила дети будут путать еще больше, после третьего – еще больше, и когда безграмотность их достигнет наивысшей точки, что бывает обыкновенно на 2–3-м году такого обучения, тогда наступает поворот, дети начинают мало-помалу приходить в себя, ориентироваться в правилах, и в 5–6-м году обучения у них устанавливается довольно сносная грамотность». В дальнейшем Соломоновский пытается и «теоретически» аргументировать подобное якобы разрушающее влияние сознательного изучения правил орфографии тем, что если взрослый пишет грамотно чисто механически, не думая о правилах, то, следовательно, орфография есть дело навыка механического. Введение же в обучение всякою элемента сознательно-грамматического отношения к фактам лишь излишне осложняет процесс обучения, противореча его существу.
Таковы типичные высказывания разных представителей нового течения в орфографии. Под их влиянием целый ряд педагогов (Зимницкий, Баранов, Вахтеров и др.) в своих пособиях, как методических, так и учебных, старались соединить обе точки зрения: с одной стороны, сохранить как методы преподавания и диктант и списыва-
1 См.: «Русский филологический вестник», 1883, Wk 4. 5 См.: «Педагогический сборник», 1897, № 2.
41
ние, с другой, – оставаясь в вопросе о роли грамматики в обучении на позициях грамматической школы, учесть и новые идеи о механичности этого процесса. В результате создаются методические построения беспринципно-эклектического характера.
Так, у Зимницкого все три «фактора» правописания: зрение, слух, сознание, которые он хочет «примирить» между собой, механически перемешиваются в «совместных» уроках: для большей верности Зимницкий меняет от урока к уроку последовательность методов, опирающихся па тот или иной «фактор». Если один урок начинается списыванием, продолжается диктовкой на то же правило и оканчивается снова списыванием, то другой – начинается диктовкой и оканчивается списыванием и т. п. Путем подобной механической перетасовки Зимницкий намечает 8 возможных типов урока, полагая, таким образом, полностью «уравнивать» влияния этих «факторов» '. Сходны по своему эклектизму и взгляды Вахтерова, который, выступив вначале в качестве сторонника грамматического направления, в более позднее время2 выдвинул положение, что правописание есть столько же дело памяти, сколько и сознания. Отношения между тем и другим он представляет упрощенно, рядоположенно, а потому признает, что в обучении с одинаковым правом могут применяться как «механические», так и «сознательные» методы.
Таким образом, ранний период антиграмматизма характеризуется критикой идей грамматического направления, опирающейся в основном на практический опыт авторов. В тех случаях, когда они обсуждают практические вопросы, как например вопрос о чрезмерном распространении в школе диктовок, практический опыт подсказывает им правильное решение. Но там, где сторонники новых идей пытаются дать своим выводам психологическое обоснование, там их рассуждения о природе орфографического навыка становятся поверхностными, мало обоснованными, что особенно заметно по сравнению с широкими психологическими обобщениями Ушинского.
Неполноценность психологической теории порождала эклектические выводы, в которых механически совме-
1 См.: «Русская школа», 1897, № 3–6.
2 См., например: «Русская школа», 1899, 5–6, 7–8.
42
щалось признание важной роли в обучении грамматики и текстуального списывания; «сознание» и другие «факторы» рядополагались, а роль зрительной памяти неправомерно универсализировалась.
В этот период сомнений и колебаний, в период поисков «руководящего начала» взгляды антиграмматистов получили неожиданное подкрепление со стороны лингвистов.
В лингвистике в это время шел интенсивный пересмотр научных позиций и принципов. Оформлялись два направления: психологическое, идейным вдохновителем которого был проф. А. А. Потебня, и формальное, во главе с акад. Ф. Ф.Фортунатовым. Эти новые идеи развенчали в глазах учительства научность той самой логической грамматики, которая со времен Буслаева преподавалась в школе. Несмотря на все различие в сущности психологической и формальной школ языковедения, их позиция по отношению к логико-грамматической системе Буслаевской грамматики была одинакова: обе школы исходили в своих построениях из ее критики.
В 1903 г. был созван Первый съезд преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях, на котором лингвисты выступили с предложением «реформы» школьной грамматики.
Ф. Ф. Фортунатов в своем докладе «О преподавании грамматики русского языка в средней школе»1 упрекал школьную грамматику в отсталости , и архаичности. Школьные учебники, по его мнению, «представляют подражания оригиналам, возникшим задолго до появления научного исследования человеческого языка». А само «изучение грамматики родного языка в средней школе дает в настоящее время очень нежелательные результаты к том отношении, что вносит в умы учеников путаницу понятий об явлениях, фактах языка вообще и нередко вызывает поэтому отвращение к теоретическому изучению языка».
Л. В. Щерба к тезису о том, что «существующие грамматики русского языка никуда не годятся», добавил требование изменить и сам метод преподавания. Вместо изучения учебников грамматики, обучение, по его мнению,
1 См.: «Труды Первого съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях», Спб., 1904.
43
должно в низших классах идти совсем без учебников и сводиться «к наблюдению и группировке явлений языка самими учениками». Правда, от этих взглядов он скоро отказался.
Пропаганда новых идей языкознания на этом съезде имела огромное значение для методики орфографии. Если и до этого раздавались голоса, умаляющие значение грамматики в обучении орфографии, то теперь такое мнение как бы санкционировалось новейшим языкознанием. По мнению его представителей, ненаучная грамматика не может оказывать помощь в орфографии. Усвоение же настоящей науки о языке, основанное на историческом изучении фактов речи, возможно только в старших классах; следовательно, в низших классах, когда закладывается фундамент грамотного письма, занятия грамматикой должны быть сведены к минимуму. Вот таким или подобным образом преломились новые идеи в голове многих учителей и методистов. «Что же делать? – спрашивает Н. Кульман. – Ответ не труден. Старую школьную грамматику с ее чисто теоретическим характером и исключительной логико-грамматической основой надо уничтожить. Нельзя оставлять в школе то, что противоречит требованиям элементарной научности и вместе с тем не помогает никаким практическим задачам» '. Следовательно, умаление роли грамматики в обучении правописанию – таков косвенный результат, к которому привела критика старой школьной грамматики со стороны лингвистов.
После данного съезда сомнение в целесообразности прибегать к грамматике для усвоения правописания стало как бы апробированным наукой.
Но пока это еще было чисто отрицательным решением вопроса. Для создания новой методики правописания ощущалась необходимость в положительной теории, которая могла бы дать ответ, какие же методы обучения следует одобрить, если авторитет грамматики как основы преподавания был подорван.
Такое якобы научное решение вопроса о лучших методах обучения орфографии неумеренными противниками грамматики было экспортировано из Германии. Речь
1 Н. К. Кульман, Методика русского языка, Спб., 1913 стр.111.
44
идет о «новых» методах, «экспериментально» разработанных представителями буржуазной эмпирической психологии Лаем и Мейманом.
И. Т. Костин – педагог, автор известной книги1, посвященной резкой критике этих «научных» данных, детально рассматривает все те основания «новых» методов, которые в качестве «научных» выдвигает Лай, и доказывает их несостоятельность.
Он показывает, что результаты опытов Лая, проведенных, как известно, на материале бессмысленных слогов, не могут быть перенесены в школу, «потому что дети оперируют лишь над словами, имеющими смысл», и «ни одна школа не может делать своей задачей практику в области бессмысленного».
Он считает, что применение в опытах Лая подобного материала дает возможность судить о закономерностях исключительно механической памяти, а не такого психологически сложного процесса, как обучение орфографии.
Возражает он и против механического списывания, которое, по Лаю, должно быть универсальным методом обучения. «Дело в том, – пишет он,– что метод немецкого профессора, около которого теперь поднят такой «шум», глубоко антипедагогичен: из всех письменных работ списывание имеет наименьшее образовательное значение», так как сводит обучение грамотному письму к дрессировке. Утверждение механичности процесса усвоения орфографии он считает ложным и в противовес выдвигает теорию «разумного» навыка, разработанную Ушинским.
Костин протестует и против того, что при перенесении методов, практикуемых в немецкой школе, забывают об особенностях русской орфографии, построенной преимущественно на этимологическом принципе, обуславливаемом богатством «флективного начала». Поэтому, заключает он, «метод механического списывания совершенно не соответствует природе и внутренним требованиям орфографии». Метод списываний может иметь место, но «строго ограниченное требованиями грамматики».
Защищая принцип сознательного усвоения, Костин отвечает и русским противникам диктовок. Диктант как
1 См.: И. Т. Костин, Правописание и экспериментальная психология, М., 1912.
45
прием обучения он оценивает именно с этой точки зрения. «Как бы и что бы против диктанта ни говорилось,– пишет он, – диктант по самой природе своей – метод сознательного приобретения навыков правильного письма. При диктанте ученик неизбежно мыслит». В заключение автор приходит к следующему практическому выводу: «Увлечение русской школы методом списывания достаточных оснований не имеет».
Несмотря на то что, кроме Костина, против механистических теорий буржуазной психологии выступил целый ряд опытных педагогов-практиков (Воскресенский, Литвиненко и др.), выводы «экспериментальной школы» для большинства методистов стали именно тем якобы научным основанием, которого не доставало для подкрепления антиграмматических взглядов. Ими на веру принимаются основные положения немецких «экспериментаторов», из них делаются методические выводы.
Если усвоение орфографии – процесс чисто механический, основанный на запоминании «образов слов», то, следовательно, рассуждали наиболее ярые последователи Лая, нет необходимости привлекать к обучению грамматические и орфографические правила; если, по Лаю и Мейману, наилучший способ для запоминания этих «образов»– зрительное восприятие и движения руки, то, следовательно, методом обучения должно быть исключительно списывание готового текста. Диктовки, а также «орфографические задачи» в виде 'списывания с пропущенными буквами и т. п. должны быть изгнаны из школьной практики как несоответствующие этим «научным» положениям.
К антиграмматистам крайнего направления, последовательно проводившим в жизнь подобного рода воззрения, относятся, например, Ц. и Б. Балталон, Томсон, Фармаковский, Зачиняев и др.
Так, Ц. и Б. Балталон после ссылки на данные Лая пишут: «Уже из одного только ознакомления со сложной психофизиологической природой процесса письма можно заключить, что этот процесс должен иметь спою самостоятельную организацию навыков движения, независимую от абстрактного мышления, следовательно, от усвоения правил орфографии, что если бы даже могли существовать простые, применимые правила орфографии для каждого момента письма, то им нечего бы-
46
ло бы делать в этом процессе ввиду его быстроты, автоматичности и независимости от процессов мышления» '.
А. И. Томсон заявляет, что «писать можно научиться только посредством писания», что «наиболее целесообразный прием, посредством которого можно без околичностей и тормозящих условий научиться писать правильно, это – писать правильно»2.
Сначала Томсон допускал возможность использования при письме некоторых правил, «которые определяют кратко и ясно явления, встречающиеся во многих случаях».
Но после того как он, по его собственным словам, ознакомился с новыми данными немецкой экспериментальной педагогики, он отбрасывает эту оговорку. «Почти все думают, – заявляет он, – что грамотность заключается в знании, где какую ставить букву и что в этом умении ставить правильно буквы заключается цель обучения письму. Вследствие этого при обучении правописанию и школе заставляют учить разные правила и перечни слов, по которым, по долгом размышлении, можно определить, где поставить какую букву. Не замечают, что грамотность должна быть в мускулах и нервах руки, в рукодвигательных и зрительных воспоминаниях»3.
По Томсону, следует полностью устранить из процесса обучения правописанию всякое участие мышления человека. «Находят еще, – пишет он дальше, – что механическое усвоение правописания не отвечает законам человеческого мышления. Но ведь это бессмысленные слова. При чем тут мышление? Нужно писать так, как пишут грамотные. Вникните в процесс грамотного писания и узнаете, что у грамотного рука автоматически производит движение».
Следовательно, под влиянием «теории образов», Томсон «выправляет» свою непоследовательность, подчеркивая полную механичность процесса усвоения орфографии, т. е. независимость его от всякого рода интеллектуальных операций.
1 Ц. и Б. Б а л т а л о н, Воспитательное чтение, 1903.
2 А. Томсон, К теории правописания и методологии его преподавания в связи с проектируемым упрощением русского правописания. «Летопись историко-филологич. об-ва при Новороссийском университете», т. XI, Одесса, 1904, стр. 228–237.
3 А. Томсон, Общее языковедение, Одесса, 1906, стр. 404.
47
Отношение Томсона к упражнениям определяется целиком этой позицией. «Правильное письмо» – это универсальный метод, а диктовки приносят только вред. «Усиленными занятиями одной диктовкой можно и из грамотного... превратиться в неграмотного», потому что при диктовках возможны ошибки, запечатление неверного образа слова, а «написав раз слово неверно, ему (ученику) предстоит в будущем уже двойная работа: запомнить верное и забыть неверное» '.
Взгляды Балталона и Томсона в достаточной мере характерны и для других представителей крайнего антиграмматизма.
Из группы «умеренных» прежде всего следует отметить Кульмана как методиста, на убеждениях которого особенно отчетливо вскрывается влияние и новой школы в языкознании, и «новейших» достижений в психологии, и собственного педагогического опыта, предохраняющего его от чрезмерного увлечения этими «достижениями». В результате Кульман сформулировал ряд положений, которые характерны для так называемого элементарно-практического направления.
В своей работе Кульман, основываясь на критике со стороны лингвистов школьной грамматики, приходит к выводу, что «старую школьную грамматику с чисто теоретическим характером и логико-грамматической основой надо уничтожить» 2.
Но сравнительно-исторический метод обучения грамматике, рекомендуемый представителями нового течения в языкознании, так сложен, что доступен только старшим классам средней школы. Между тем обучение орфографии производится и младших классах, а природа русской орфографии такова, что для ее усвоения нужны некоторые элементарные грамматические сведения. Поэтому, по мнению Кульмана, совсем отказаться от грамматики нельзя, но нужно подчинять ее преподавание исключительно практическим целям «усвоения орфографии, пунктуации и отчасти стиля».
Так обосновывает Кульман свое первое положение о грамматике как «служанке правописания». Переходя к
1 А. И. Томсон, К теории правописания, Одесса, 1904,
стр. 230–231.
2 Н. Кульман, Методика русского языка, Спб, 1913.
48
рассмотрению методов обучения орфографии, Кульман излагает данные опытов Лая, но берет от них только практическую сторону: во-первых, обоснование списывания в противовес диктовке; во-вторых, необходимость предупреждения ошибок.
Опираясь на эти два положения, Кульман отвергает проверочную диктовку как метод обучения орфографии, «так как ученики при диктовке упражняются в сущности в неправильном письме», а принципу предупреждения ошибок, который он формулирует так: «Никогда, по возможности, не допускай своих учеников ни видеть ошибок, ни делать их», он придает роль основного критерия для оценки приемов обучения. Вопрос о том, что опыты Лая прежде всего утверждают универсальность метода списывания-копирования и тем самым сводят к нулю значение грамматики, Кульман обходит молчанием и тут же путем простой ссылки «на особенность русской орфографии» приходит к выводу о недостаточности одного списывания и пишет, что, наряду со списыванием, допустимы и иные приемы обучения ... где «элемент сознательности пролагает пути для быстрого распознавания различных орфограмм». Поэтому он .рекомендует и «объяснительную» диктовку, и «зрительный диктант». Даже «научно обоснованному» списыванию сплошного текста он предлагает «предпослать урок, посвященный осознанию того или другого орфографического правила и построенный таким образом, чтобы ученики сами это правило установили». В таких утверждениях сказывается уже практический опыт Кульмана, делающий для него невозможным слепое следование теории, противоречащей фактам обучения. Но предложить какую-нибудь цельную теорию он не может, а идти за якобы устарелой концепцией грамматической школы не хочет.
Начав с доводов «науки», Кульман в конце концов, чувствуя свою теоретическую беспомощность, рекомендует учителям в выборе методов следовать... своему педагогическому чутью. «Педагогическое чутье и такт подскажут учителю в каждом отдельном случае, к какому сочетанию приемов следует прибегнуть».
Таким образом, Кульман в одних своих положениях полностью опирается на механистические концепции, отрицающие значение словесно-логического мышления, другие же методические рекомендации строит на противопо-
4 9
ложном принципе – сознательном усвоении правописания, не замечая несовместимости исходных точек зрения.
А. Д. Алферов в дискуссии об орфографии совершенно правильно считает центральным вопросом вопрос о «механической» или «сознательной» природе обучения. Он пишет по этому поводу: «Первое, на чем приходится остановиться при попытке выяснить этот вопрос о наилучших приемах обучения, – это необходимость отдать себе отчет, нужно ли стремиться к тому, чтобы орфография усваивалась только механически или и сознательно. Ввиду того что за последнее время особенно часто настаивают на механическом обучении правописанию, остановимся несколько з а и п р от и в обоих принципов обучения в деле орфографии» '. Он указывает дальше на общепедагогическое значение сознательного отношения и, подобно Кульману, приводит целый ряд отделов в орфографии, «в которых одной привычкой нельзя обойтись». Но так как, по его мнению, «всякое механическое усвоение становится автоматическим и как всякое автоматическое усвоение оно отличается прочностью, долговременностью и безошибочностью», ему кажется, что «больше надежды можно возлагать на механическое усвоение». Однако как практик он сознает и те преимущества, которые приносит принцип сознательности. Поэтому в заключение Алферов приходит к выводу, что «правильнее было бы использовать в этом деле выгоды того и другого начала». Или, как он пишет дальше: «Нам лично кажется, что такое обращение к зрению, слуху, мускульно-двигательному чувству и сознанию – действительно наиболее целесообразный прием».
В соответствии с этой теорией Алферов намечает отдельные приемы работ, опирается на нее для разрешения традиционного спора между диктантом и списыванием. Алферов в этом отношении идет дальше Кульмана, который, защищая преимущества «объяснительного» диктанта, осуждает проверочный.
А. Д. Алферов являлся одним из немногих специалистов своего времени, которые считали целесообразной формой диктовки не только объяснительную, но и проверочную. Он хорошо понимает, что защита проверочного диктанта п корне противоречит данным «эксперимен-
1 А. Алферов, Русский язык в средней школе, М, 1911. 50
тальной педагогики», на которые он же опирается, аргументируя эффективность списывания. Но тем не менее Алферов полагает, что именно вопрос о диктантах представляет тот случай, «когда практика преподавателя может и должна вносить некоторые поправки в теоретические указания, хотя бы и весьма авторитетных психологов». Поэтому Алферов выступает в защиту диктанта как активного метода, при котором ребенок поставлен перед необходимостью «решать задачи».
Таким образом, мы видим, что Алферов, как и Кульман, руководясь «чутьем» педагога, переходя от теоретических обоснований к практике, начинает защищать методы, психологическая природа которых в корне противоречит рекомендациям сторонников Лая и Меймана.
Если теперь подытожить взгляды «умеренных» сторонников этого направления, то можно отметить следующие характерные черты:
1) Признание важнейшим методом обучения списывание в полном соответствии с доказательствами «экспериментальной педагогики».
2) Полное отрицание в связи с этим пользы для обучения проверочной диктовки (исключение составляет Алферов).
3) Противодействие безоговорочному отрицанию роли правил.
4) Попытки эклектически преодолеть механические теории, рядополагая отдельные виды восприятий (зрение, слух, моторика) и «сознание».
5) Полное единодушие в признании универсальности принципа «предупреждения ошибок» как основного критерия методов обучения орфографии.
Для психолога из последующих идей антиграмматического направления интересна теория так называемого «сознательного списывания», выдвижение которой связано с именем В. А. Флерова, известного методиста, составителя весьма популярных в свое время букварей, книг для чтения и методических пособий.
Флеров наиболее полно изложил свои идеи в докладе на Первом Всероссийском съезде преподавателей русского языка средней школы, состоявшемся в Москве в 1917 г.
В начале доклада «Сознательность письма как принцип обучения» Флеров делает признание, что примене-
51
ние в школьной практике списывания с готового текста, применявшегося в осуществление принципов «экспериментальной школы», не дало ожидаемых положительных результатов «в смысле выработки навыка писать-мыслить, не думая о правилах письма». Это произошло, по мнению Флерова, потому, что «графическая наглядность не устраняет вопиющего зла современной постановки письма – письма механического, бессознательного».
Можно было бы думать, что подобная непригодность методов должна потребовать пересмотра той теории, на которой они основаны. Однако Флеров не делает такой попытки. В своей книжке, к которой он отсылает читателей"1, он выступает как убежденный сторонник этой теории, обоснованной «научными авторитетами». Мы находим там положения, уже известные по работам других антиграмматистов. «Надо, – пишет Флеров, – учить детей всматриваться в правильные начертания слов и запоминать их». Это необходимо потому, цитирует он дальше Меймана, что «при письме главное внимание должно быть обращено на выработку точных зрительных представлений о формах и на возможно более непосредственное автоматическое соединение этих представлений с движениями, выполняемыми при письме».
Таким образом, не может быть сомнений в том, что Флеров полностью разделяет механические взгляды на природу письма Меймана и Лая. О какой же «сознательности» в таком случае может идти речь?
Об этом мы узнаем из следующего тезиса Флерова:
«Рядом с принципом графической наглядности в обучении правописания, должен быть проведен принцип идеографической наглядности, или сознательности письма, в смысле осознания содержания орфограмм. Ни одного записываемого слова без живой мысли». Как следует из дальнейшего, под неточным выражением «содержание орфограмм» и под мудреной «идеографической наглядностью» Флеров имеет в«виду понимание смыслового содержания речи. Таким образом, становится ясным, что «принцип сознательности», провозглашенный торжественно как поправка к «научной» теории механистов, по существу подменяет сознательное отношение к
1 См.: В. А. Флеров, Наглядность письма в освещении современной психологии, Спб., 1912, стр. 13.
52
орфографической и грамматической сторонам языка, так сказать «орфографическую сознательность» (о которой шла речь в школе Ушинского) сознательностью смысловой, т. е. пониманием содержания списываемого текста.
Очевидно, что сознательность «орфографическая» и смысловая психологически совсем не тождественны. Понимание смысла речи в одинаковой степени необходимо и при чтении, и при письме. В этом смысле, напоминание Флерова о важности этой стороны обучения полезно и, по-видимому, было в то время весьма своевременно.
Для обучения орфографии, однако, специфично осознавание не только того, что пишется, но и того, как пишется. Принцип же «идеографической» сознательности этого вопроса не затрагивает. Можно признавать важность понимания смысла записываемого текста, но оставаться в то же время на позициях антиграмматистов. Чтоб ни у кого не возникало сомнений по этому поводу и для того, чтобы предупредить применение в 'школе приемов, подобных «орфографическим задачам», Флеров предлагает (а съезд принимает) следующий дополнительный тезис. «Всякого рода упражнения, носящие характер искушения или испытания, например, в виде пропуска сомнительных букв и т. п. нежелательны» 1.
Таким образом, мы видим, что выдвижение принципа «идеографической» сознательности не внесло и не могло внести ничего оригинального в представление о психологии орфографическою паника, свойственного антиграмматистам.
Однако о нем стоило упомянуть, поскольку провозглашенный Флеровым принцип «сознательности» оказал не только положительное влияние тем, что обратил снопа внимание педагогов на смысловую сторону письма, но и внес немало путаницы в их умы употреблением термина «сознательность» именно в этом смысле.
Смешение понятий «орфографической» и смысловой сознательности практически привело к смешению орфографических упражнений с упражнениями логическими и упражнениями по развитию речи. Считалось многими, что если упражнение в списывании поставлено так, что требует понимания логического смысла списываемого
'- «Материалы Первого Всесоюзного съезда преподавателей русского языка средней школы», М... 1917, стр. 28.
53
текста, то тем самым такое упражнение полностью отвечает принципу сознательного обучения орфографии. Во многих учебниках и советского периода получили, например, большое распространение так называемые упражнения на списывание со вставкой пропущенных слов, причем эти слова в готовом виде печатались под текстом упражнения в отделе «Для справок», откуда ученик должен был выбирать подходящее по смыслу слово и вставлять в текст. Как легко заметить, такое упражнение, действительно, предупреждает бессмысленное списывание, но не ставит перед учеником никакой специальной орфографической задачи: пропущенные слова он может скопировать, не думая об орфографии, в полном соответствии с рецептами антиграмматистов. А между тем авторы учебников и методик, рекомендующих упражнения такого рода, не сомневались, что они реализуют на практике принцип сознательного обучения орфографии.
* * *
Если обозреть теперь те главные психологические проблемы, которые возникали в истории методики вплоть до советского периода, то естественно прийти к выводу, что все они связаны с одной общей проблемой: психологией формирования орфографического навыка. В зависимости от того или иного представления о психологической природе этого процесса решались по-разному и вопросы методики. Психологические взгляды сторонников грамматического и антиграмматического направления представляются в этом отношении как полярно противоположные. Первые видят в навыке «разумное», сознательное начало, вторые подчеркивают его исключительно механическую природу, понимая под этим независимость образования навыка от мышления. Ассоциации между слуховым или зрительным восприятием (или представлением) целого слова и соответствующими реакциями письма, по мнению антиграмматистов, носят единичный, не обобщенный характер и, по сути дела, как бы мы сказали сейчас, остаются преимущественно первосигнальными. Вмешательство в процесс образования ассоциаций мыслительных операций признается вредным или, по крайней мере, ненужным. Подобной упрощенной психологической теории соответствует и стандарт-
54
ность приемов обучения. Так как «доказано», что для орфографии исключительное значение имеет зрительная память, то универсальным методом обучения признается списывание с правильных образцов при недопущении восприятия искаженного образа слова. Естественно, что при подобных воззрениях на психологическую природу орфографических навыков знание грамматики становится излишним.
Ушинский, наиболее полно разработавший психологические основы грамматического направления, представлял этот процесс иначе. Он не сомневался в том, что в основе выработки навыков лежат связи между восприятием слова и движениями письма. За связью «образов» и «представлений» он видел материальные, физиологические связи «рефлективного» порядка.
Вмешательство «рассудка» в процесс образования этих связей не тормозит, по его мнению, процесс автоматизации, а ускоряет его. Перевод «механических комбинаций» в рассудочные систематизирует ассоциации, приводит их в «стройные ряды».
В этом процессе он отмечает особую роль слова, однако оставляет это положение недостаточно развернутым. Процесс образования навыка предполагает органическую связь сознательных процессов с «механическими». Из такого понимания психологии навыка вытекает вывод о важном значении в обучении грамматических знаний и орфографических правил, «руководящих» образованием навыка». «Бесконечные» упражнения необходимы, но они не должны заключаться в механическом повторении акта восприятия слова и его записи. Характер упражнений должен обеспечивать возможность постепенного нарастания самостоятельности учеников в применении изученных правил, причем форма упражнений, различная роль зрительных или слухо-речедвига-тельных восприятий определяется языковыми особенностями орфограмм. Таким образом, выполнение упражнений рассматривается грамматистами как сознательная деятельность, в процессе которой вырабатывается целый ряд умений соотносить орфографические действия с «отчетливым знанием грамматических форм», умений, переходящих затем в навыки. Такой теории упражнений был чужд эклектизм, характерный для взглядов тех методистов, которые придерживались так называемой тео-
55
рии «факторов» (например, Зимницкий). Ошибочность этой теории заключалась в том, что ее сторонники рассматривали процесс обучения как механическую сумму влияний «слуха, зрения, моторики и сознания». Мышление, при таком понимании, не включалось в саму деятельность ученика, качественно перестраивая ее, а протекало как бы параллельно с ней и потому могло, по произволу автора, то прибавляться к «сумме» факторов, то вычитаться из нее. Естественно, что подобные эклектические построения, основанные на идеалистическом противопоставлении сознания и деятельности, не могли дать научного объяснения изучавшимся фактам.
Как мы видели, в педагогической системе взглядов Ушинского важная роль отводилась связи обучения с непосредственным языковым опытом ребенка.
Этот опыт выступал для Ушинского в качестве «словесного инстинкта», или «чутья языка». Несмотря на то что анализ этих понятий не получил у него должного завершения, тем не менее постановка вопроса о важной роли в обучении грамматики подобных практических знаний о языке сама по себе свидетельствует о глубине психологических взглядов Ушинского на процессе усвоения грамматических знаний.
ГЛАВА II
ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ УСВОЕНИЯ ОРФОГРАФИИ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ
Развитие методических идей в области орфографии в советский период можно разделить на два этапа: до и после исторических постановлений партии и правительства о школе в 1931 и 1932 гг. Первый этап, как известно, характеризовался господством в школе всякого рода прожектерских идей, вроде так называемой «комплексной системы преподавания» и «метода проектов», в основе которых лежала антиленинская идея постепенного отмирания школы. Систематическое изучение грамматики, как и других теоретических дисциплин, было нарушено. Те или другие знании вводились в школу лишь постольку, поскольку они были необходимы для «практических дел». Орфографию ученики изучали также от случая к случаю, на безграмотность письма внимание обращалось лишь постольку, поскольку ошибки ученика снижали «социальную значимость» письма. Орфографические упражнения были заброшены, так как «надо с самого начала не бояться утонуть в море орфографических ошибок – бросить ученика в свободное изложение своих мыслей, наблюдений» (Афанасьев). Естественно, что при таких взглядах на обучение нельзя было говорить о какой-либо связи орфографических умений с грамматическими знаниями.
Постановления партии и правительства о школе разоблачили вредную антиленинскую теорию отмирания школы и привели к коренному изменению всей школьной системы обучения. Перелом наступил и в области преподавания орфографии. В школу был введен системати-
57
ческий курс грамматики, параллельно с грамматикой вводились и орфографические правила, закрепляемые специальными орфографическими упражнениями. Борьба за грамотное письмо сделалась важнейшей задачей школы. В советской дидактике, освобожденной от пут ложных «теорий», прочно утвердилось требование строить обучение на сознательной и активной деятельности учащихся.
В советской психологии появились исследования, посвященные изучению психологических основ обучения орфографии, резко критикующие механистические и идеалистические «теории» буржуазной психологии.
Первый послереволюционный период методики орфографии с полным правом можно представить как непосредственное продолжение развития тех тенденций, которые были характерны и для предреволюционных методических взглядов.
На съезде словесников, состоявшемся в начале 1917 г., отчетливо вскрылось разочарование многих его участников в тех методах обучения, которые основывались на антиграмматических теориях. В первые же годы послереволюционной жизни школы противоречия во взглядах грамматистов и антиграмматистов стали обнаруживаться все с большей очевидностью, и вскоре вокруг вопроса о роли грамматики в усвоении орфографии вновь разгорелась ожесточенная борьба.
Ряд методистов (П. О. Афанасьев, В. А. Малаховский, Н. С. Державин и др.) еще продолжали развивать идеи антиграмматистов. Так, например, Афанасьев, автор распространенных методик русского языка, и 1925 г. в защиту своих взглядов приводил все те же знакомые нам аргументы теоретиков антиграмматизма. Он ссылался на данные «психофизиологии письма, подтвержденные опытами Лая», охотно цитировал Томсона, говорящего о вреде изучения правил, приводил доказательства Шереметевского против диктанта и пришел в конце концов к выводу о том, что не следует придавать большого значения знанию правил, что «наиболее пригодным средством для усвоения правописания оказывается списывание».
В итоге Афанасьев сформулировал следующие, по его мнению, «прочно установленные и научно доказанные» положения:
58
«1. Диктант слуховой, особенно проверочный (названный Шереметевским «карательным»), ни в коем случае не может служить средством изучения правописания.
2. Бесспорно установленным нужно считать принцип предупреждения ошибок, т. е. недопускание неверных зрительных и рукодвигательных ощущений».
В оценке роли правил Афанасьев занимал такую же половинчатую, колеблющуюся позицию, которая уже знакома нам по взглядам «умеренных» противников грамматической теории. По этому поводу он писал:
«3. Не следует придавать большого значения знанию правил правописания. Но, с другой стороны, было бы противоположной крайностью и отрицать, как это склонны делать некоторые методисты, всякое значение за знаниями правил правописания».
Но вслед за этим он формулировал положение, исключающее это признание, хотя и скромной, но положительной роли правил.
«4. «Писать можно научиться только посредством правильного писания», говоря афоризмом Томсона. Но исключительно правильное писание возможно только при списывании. В конце концов, таким образом, наиболее пригодным средством для усвоения правописания является списывание» '.
Если Афанасьев признавал за правилами, хотя и скромное, но положительное значение, то В. А. Малаховский, полностью становясь на поящий Томсона, считал, что правила приносят обучению только вред2.
Показательным для характеристики методических взглядов этого первого послереволюционного периода являются резолюции некоторых учительских собраний, конференций. В качестве примера обратимся к резолюции VI Всероссийской конференции по ликвидации неграмотности, происходившей в 1927 г. В той части резолюции, которая посвящена вопросам методики письма, говорится, между прочим, следующее:
«8. Для подведения учащихся к грамотному письму (относительно) в школе малограмотных нужны приемы
1 П. О. Афанасьев, Краткая методика родного языка, Гиз,
1925, стр. 72.
2 В А. Малаховский, Очерк по методике русского языка,
Гиз, 1928.
50
наиболее быстрые и действительные. Заучивание правил не должно иметь место в школах малограмотных (проф. Томсон). Правила даются не в грамматической терминологии, а как соответствующий вывод на основании наблюдения над текстом...
12. Основной принцип приобретения орфографических навыков – недопущение ошибок – «Писать можно научиться только посредством правильного писания» (Томсон, Шапошников).
13. Одно из средств недопущения ошибок – списывание с правильного текста (Лай)»1.
Приведенные примеры в достаточной мере характеризуют психологические взгляды некоторой части методистов. Мы не находим в них ничего принципиально нового по сравнению с уже известными нам взглядами сторонников аптиграмматического направления: полное отрицание положительной роли грамматики и «частичное» признание грамматики, списывание как основной универсальный метод обучения и недопущение неверных зрительных образов слов как критерий для выбора письменных упражнений. В основе таких взглядов по-прежнему лежали психологические теории, по которым усвоение орфографии представлялось как процесс постепенного накопления «зрительных образов», т. е. запоминание правописания отдельных слов, поддерживаемое повторным зрительным восприятием и моторно-двигательными реакциями письма.
Но наряду с подобными взглядами в рассматриваемый период существовали и другие точки зрения. Двадцатые годы нашего столетия отмечены зарождением или, вернее, восстановлением теорий обучения орфографии, признающих основой обучения неразрывную связь орфографии с грамматикой. По свидетельству методистов (Н. Каноныкин, А. Текучев и др.), почетную роль и возрождении грамматических теорий обучения орфографии сыграл А. М. Пешковский. В своей работе «Правописание и грамматика в их взаимоотношениях в школе»2 он на основе ряда лингвистических соображений и психологических наблюдений приходит к выводу о необходимо-
1 «Материалы VI Всероссийской конференции но ликвидации неграмотности», изд. «Долой неграмотность», 1928, стр. 87. 2 См.: А. М. Пешковский, Сборник статей, Гиз, М., 1925.
60
сти обучение орфографии связывать с изучением грамматики.
Остановимся на психологической аргументации его основных мыслей.
Прежде всего Пешковский, как в свое время и Ушинский, показывает несостоятельность одного из традиционных для своего времени приемов доказательства механической природы образования навыка – ссылки на характер конечного результата этого процесса. «Очень часто, – пишет Пешковский, – умалители роли грамматики в обучении правописанию ссылаются на то, что мы, взрослые, когда пишем, не думаем о «правилах». Но ведь и все привычные действия бессознательны и в то же время всей их бессознательности предшествовало в свое время сознательное усвоение, нередко при помощи правила. Когда едешь на велосипеде, совершенно не думаешь, что надо поворачивать руль в сторону падения, и даже не замечаешь своих минимальных поворотов. Однако, когда учишься, необходимо узнать это правило»1. Выставив такое положение (употребляя современную терминологию, – о вторичной автоматизации навыка), Пешковский выдвигает на обсуждение вопрос, который можно сформулировать так: означает ли усвоение правописания путем запоминания каждого в отдельности слова полную независимость от работы мысли?
Вначале он признает, так же как Ушинский, что, наряду с обучением через правила, возможен и другой путь формирования орфографических навыков, путь практический, без сознательного обучения и применения правил. Он так же, как и Ушинский, писавший, что при таком способе обучения каждое новое слово должно ставить в тупик любого грамотея, указывает на ограниченные возможности чисто практического обучения, на неэкономичность такого обучения и т. д. Но, помимо подобных педагогических соображений, приводимых Пешковским в защиту усвоения орфографии на грамматической основе, автор стремится показать, что в основе научения орфографии чисто практическим путем лежит отнюдь не запоминание графической формы каждого слова, а обобщения языкового порядка, образованные, как он выражается, «в подсознательной сфере».
А. М. Пешковский, Сборник статей, Гиз, М., 1925, стр. 34.
61
И в этом отношении Пешковский сходится с Ушинским, подчеркивающим, как мы видели, роль чутья, инстинкта языка.
Но Ушинский, во-первых, не делал попыток раскрыть более конкретно это понятие; во-вторых, не применял данное понятие к обучению орфографии. Пешковский же делает шаг вперед в обоих отношениях; он квалифицирует подобное чутье как особое обобщение и рассматривает его роль в отношении усвоении орфографии.
Выдвигая свое положение об обобщающем характере деятельности и в случае так называемого практического обучения, обучения без правил, Пешковский сопровождает свое утверждение рядом весьма тонких психологических наблюдений. Он рассуждает следующим образом:
«Возьмем, например, хотя бы то же правило об i в дореволюционной орфографии и представим себе, что какой-либо учитель старого времени захотел бы (по приказу или экспериментально) выучить учеников правильно употреблять эту букву, не давая правила. Что произошло бы? Можно с уверенностью сказать, что прежде всего процесс усвоения соответствующих орфограмм страшно замедлился бы, и ошибки на i заняли бы столь же почетное место во всех классах гимназии, как ошибки на «ять»; (фактически ошибки на i исчезали в первую очередь и уже у первоклассников были немыслимы). Далее можно думать, что в случаях, поддержанных грамматическими ассоциациями (хотя бы и подсознательными), эти ошибки исчезли бы раньше и некоторое время ученики писали бы синiй, синiе, чтенiе, в чтенiи, но еще прием, приурочивать, влияние, миллион '.
Из этих случаев слова с приставкой при усвоены были бы опять-таки раньше, чем слова без всякой грамматической аналогии, и такие ошибки, как миллион (рядом, конечно, с обратного типа ошибками: старiна, мiлый) дотянулись бы, вероятно, до университета. В отдельных случаях отдельные ученики сами открывали бы закон употребления i, и эти ученики уже не делали бы ошибок на эту букву... . Но это уже было бы обучением по пра-
1 Примечание. По правилам дореволюционной орфографии i писалась перед гласными и й. В сложных слонах перед гласной, начинающей второе слово, писалось и (ниоткуда): лишь приставка при всегда писалась через i (Д. Б.).
62
вилам, только скрытым учителем и открытым под давлением горькой нужды самими учениками» '.
Пешковский противопоставляет здесь традиционному «запечатлению образа слова» грамматические ассоциации, возникновение которых повышает и ускоряет обучение. Обобщения грамматически сходного материала, лежащие в основе таких ассоциаций, иногда осознаются детьми, «открывающими» правило. Таким образом, Пешковский в практическом обучении усматривал ту же интеллектуальную основу, что и при обучении по правилам. В другом месте Пешковский высказывается поэтому поводу совершенно определенно. «Дети, – пишет он, – не знающие ничего ни о прилагательном, ни тем не менее о родительном падеже его, могут приучиться писать формы доброго, синего и т. д. через г, а слова логово, зарево, здорово, заново и т. д. – через в. Очевидно, у них представление о родительном падеже единственного числа прилагательного в подсознательной сфере образовалось»2.
Таким образом, по Пешковскому, известные из жизни случаи усвоения правописания без изучения грамматики и орфографических правил не служат еще доказательством того, что процесс учения сводится к простому запоминанию каждого отдельного слова. Он полагает, что в таком случае, вопреки способу обучения, у детей под влиянием практики письма складываются свои «правила», остающиеся чаще нечто в «подсознательной сфере».
Если не считать неудачного термина «подсознательный», некритически заимствованного Пешковским из модных в то время идеалистических психологических теорий, существо гипотезы Пешковского лишено какого-либо налета мистицизма.
По Пешковскому, такие «подсознательные обобщения» являются результатом предварительной мыслительной деятельности учеников, и возможность их возникновения обусловливается объективными причинами: характером тех или иных языковых фактов (прежде все-го типичностью и регулярностью усваиваемых орфограмм) и практикой письма.
А. М. Пешковский, Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики, Гиз, М., 1930, стр. 35–36.
2 А. М. Пешковский, Сборник статей, Гиз, М., 1925, стр. 40.
63
Пешковский указывает на ограниченность таких «подсознательных» обобщений. Он пишет, что, помимо огромной орфографической практики, требующейся для их выработки, необходима, как выражается Пешковский, «сравнительная прозрачность данного грамматического явления». Он приводит ряд примеров, где, по его мнению, такие обобщения могут образовываться лишь с большим трудом или совсем не образовываться, и объясняет это языковыми особенностями таких орфограмм.
Как мы помним, Ушинский и его последователи считали возможным формирование навыка двумя психологически резко отличающимися путями: «механическим» и «сознательным», и выбирали для обучения последний путь, основываясь главным образом на соображениях педагогического характера. Пешковский же считал, что процесс формирования проходит фазу отвлечения и обобщения (если факты языка допускают это), «подсознательную» при практическом методе обучения и сознательную при обучении посредством грамматики.
Таким образом, в теорию орфографического навыка, разработанную Ушинским и его последователями, вносится существенное дополнение.
С подобным пониманием Пешковским психологической природы формирования орфографических навыков были связаны и его взгляды на роль в этом процессе грамматических знаний.
Он считал, что ограниченность «подсознательных обобщений» делает их педагогически неполноценными. Необходимо поэтому «подкрепить подсознательные ассоциации грамматической работой». «Грамматика же (в своей описательной части), – писал он, – как раз и занимается переводом подсознательных языковых явлений в сознательные. Другими словами, грамматика как наука производит коллективными силами как раз то, что каждому надо проделать индивидуально» '.
Из подобных теоретических предпосылок Пешковский приходит к выводу о необходимости восстановить в правах преподавание в школе грамматики. «Окончательный мой вывод: полная необходимость обучения грамматике при обучении орфографии».
1 А. М. П е ш к о в с к и и, Сб. «Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики», Гиз, М.–Л., 1930, стр. 12.
64
Но Пешковский не ограничился лишь общим утверждением о необходимости грамматики. В дальнейших высказываниях он касается также вопроса: в чем же именно заключается положительная роль грамматики?
Решение этого вопроса Пешковский связывает с тем значением, которое он придавал семантической стороне грамматических явлений. Однако прежде чем излагать но этому поводу взгляды Пешковского, необходимо дать краткую справку о взглядах филологов на языковую природу русской орфографии.
В свое время еще Тредиаковский предлагал в орфо-графии руководствоваться исключительно фонетикой и «'писать по звонам». Я. К. Грот видел задачу исследователя орфографии в установлении тою, «насколько верно и точно звуки могут быть изображены придуманными для них общеупотребительными начертаниями»1. Ф. Е. Корш называл орфографию «общедоступной передачей звуков», а Р. Ф. Брандт, настаивая на фонетической реформе орфографии, объявлял существующую орфографию лженаучной и утверждал, что если "мы пишем вместо того, чтоб говорить, следовательно, естественно писать так, как говорят». Для достижения же подобной, по его мнению, идеальной орфографии необходимо «провозгласить положение, чтоб каждому звуку языка соответствовала определенная буква – и только одна, а не несколько, каждой же букве – определенный звук»2. Все трудности орфографии объяснялись им лишь несоблюдением этого правила и «мудрствованием грамматистов», проявляющимся в «засорении» орфографии случаями этимологического написания, противоречащими произношению.
Из этих высказываний, типичных для «фонетистов», явствует, что фонетическая теория правописания сводила исследование природы русской орфографии в основном к выявлению отношений между звуком и буквой, оставляя в стороне семантическую сторону письма.
Подобная тенденция вызвала в среде лингвистов сильное противодействие. Одним из наиболее принци-
1 Я. К. Грот, Спорные вопросы русского правописания от Пет-
ра Великого доныне, Спб., изд. 2, 1876.
2 Р. Ф. Брандт, О лженаучности нашего правописания, 1901,
стр. 3.
65
пиальных критиков ее и был А. И. Томсон. В противовес фонетистам он подчеркивал, что основная задача письменной речи заключается не в копировании звуков, а в передаче значений мысли. Поэтому в проблеме «точности или неточности передачи звуков речи не может быть принципиального вопроса... С научной точки зрения оправдывается всякое письмо, посредством которого мы безошибочно передаем наши мысли» '. Тем более что, несмотря на общность целей устной и письменной речи, «письмо в значительной степени такой же самостоятельный язык, как устная речь, от посредничества которой даже звуковое письмо более или менее эмансипируется» 2.
Анализируя те средства языка, которые служат для выражения мысли, Томсон особо выделяет морфологические части слов («морфологические принадлежности»), которые являются кратчайшими единицами речи, носителями определенных значений.
Руководствуясь этими соображениями, Томсон в противовес фонетическому принципу письма выдвинул принцип морфологический, согласно которому правописание определяется в конечном счете ассоциациями между начертаниями и значениями морфологических частей слова. «Как представление об отдельном звуке или комплексе звуков, например слоге или ряде слогов, вызывает соответствующие фонетические единицы начертаний, так и значения морфологических частей слов вызывают вместе с звуковыми представлениями их и соответствующие морфологические единицы начертаний. В первом случае единицами письма будут разные буквосочетания или отдельные буквы, во втором начертания морфологических частей. Ввиду этого я назвал первый способ или принцип писания – фонетическим, второй – морфологическим» 3.
При этом Томсон считал, что для грамотного человека звуковая сторона морфологической части является несущественной при писании, а «существенными яв-
1 А. И. Томсон, К теории правописания и методологии пре
подавания его в связи с проектируемым упрощением русского пра
вописания. «Летопись историко-филологического об-ва при Ново
российском университете», т. XI, Одесса, 1904, стр. 83–86.
2 Там же, стр. 133.
8 Та м же, стр. 110.
66
ляются только значения и графические изображения их». Отсюда вытекало требование Томсона к правописанию: «Нужно, чтобы одинаковые начертания морфологических принадлежностей слов всегда обозначали только такие морфологические принадлежности, которые имеют одинаковые значения» '.
Работы Томсона справедливо считаются в современной литературе первыми, указавшими на важнейшее свойство русской орфографии – ее морфологичность, заключающуюся в принципе единообразного написания одинаковых по значению морфем языка. В последующие годы морфологический принцип утвердился во мнении почти всех без исключения лингвистов как наиболее существенный для русской орфографии, и морфологичность письма стала доказательством необходимости строить обучение орфографии на грамматических основах. Но Томсон как лингвист разошелся во мнениях с Томсоном как методистом. Он не сделал по отношению к орфографии тех выводов, которые естественно вытекали из его лингвистических исследований. Он не смог преодолеть неверной теории запоминания целых образов слов и, как мы уже указывали в первой главе, вошел в историю методики как крайний сторонник антиграмматического направления. Поэтому новаторская идея Томсона о значении семантической стороны языка для правописания осталась методически не использованной.
Пешковский, разделяя основные мысли Томсона о роли значений в языке, развил эти идеи, применил их к обучению орфографии и сделал попытку психологически обосновать влияние грамматических знаний на усвоение орфографии.
Основная мысль Пешковского, как и Томсона, заключается в том, что характерной особенностью всякой грамматической формы, каждой морфемы является наличие в них двух сторон: внешней, звуковой, и внутренней, значащей. В языке эти две стороны слиты воедино, и потому каждая грамматическая форма представляет собой, как выражается Пешковский, звукозначе-
1 А. И. Томсон, К теории правописания и методологии преподавания его в связи с практикуемым упрощением русского правописания, «Летопись историко-филологического об-ва при Ново-российском университете», т. XI, Одесса, 1904, стр 166.
67
Поэтому истинное грамматическое знание состоит в понимании отношений между грамматическими значениями и их звуковой формой. Пешковский осуждал тот метод грамматического разбора, когда ученику предлагается определять грамматические формы отдельно от их значений или наоборот. «Мы считаем, – писал он, – что именно в установлении связи между значениями и звуками должна состоять работа ученика»1. Он считал одним из важнейших вопросов методики грамматики выяснение того пути, по которому следует вести преподавание, чтоб эту связь сделать понятной для учеников: идти ли от значения к звукам или от звуков к значению. Пешковский пишет, что, создавая свой учебник «Наш язык», он строил его с таким расчетом, чтобы ученик при анализе грамматических фактов постоянно шел от звуков к значениям, так как именно этот путь он считал наиболее доступным для ребенка 2.
Подобное понимание существа грамматических явлений определило понимание Пешковским вопроса о связи грамматических знаний и орфографических умений. Он, так же как и Томсон, считал, что природу русского правописания нельзя свести к отношению между буквами и звуками, что в основе правописания лежит морфологический принцип единообразного написания одинаковых значащих частей слова. Это свойство орфографии отражается и на процессе письма. «Пишущий и молча читающий не должны воспроизводить в своем воображении соответствующего звука в его живом трепете, – писал Пешковский, – они либо переживают это звучание в крайне скомканном, зачаточном, атрофированном виде, либо совсем не переживают его, т. е. прямо ассоциируют мысли и значения с буквами (курсив автора.– Д. Б.)»3.
В другом месте он выражается еще категоричнее: «Правописное искусство всецело зиждется на прочности зрительных и рукодвигательных образов слов со значениями языка»-4.
1 А. М. Пешковский, Школьная и научная грамматика, изд.
2, М., 1918, стр. 61.
2 См.: А. М. Пешковский, Методическое приложение к кни
ге «Наш язык», Гиз, 1923.
3 А. М. Пешковский, Реформа или урегулирование, «Рус
ский язык в советской школе», 1930, № 3.
4 А. М. Пешковский, Сборник статей, Гиз, М., 1925, стр. 34.
68
Поскольку грамматика, по Пешковскому, изучает отношения между значениями и формами языка, постольку знание и понимание грамматических фактов не может не оказывать своего положительного влияния на обучение орфографии тем, что «подсознательные грамматические ассоциации», возникающие у учеников, даже при незнакомстве с грамматикой, превращает в осознанные правила правописания.
Пешковский далее указывал, что грамматические значения не однородны по своему характеру, и потому их усвоение – процесс различной сложности. С одной стороны, он выделял реальные значения корней слов, усвоение которых, по его мнению, не требует грамматических знаний, а опирается исключительно на установление ассоциаций между образами слов и наглядными представлениями предметов и явлениями реального мира. С другой стороны, усвоение правописания других морфем (префиксы, инфиксы, суффиксы, флексии и служебные слова) требует отвлечения их зрительного и рукодвигательного образа от реальных образов и связи с тем, что в грамматике называется формальным или грамматическим значением. А между тем, писал Пешковский, при обсуждении методических приемов обучения, «нередко упускается из виду кардинальный факт: разнородность того, с чем приходится связывать образы слов, разнородность самих значений языка». «Я имею в виду деление этих значений на реальные и грамматические. Это два ряда образов, психологически противоположных друг другу»1. В этих высказываниях мы видим, во-первых, то, что сближает взгляды Пешковского с Томсоном: это тот анализ грамматических фактов, который подчеркивает исключительную важность семантической их стороны. Но если Томсон не делает из этого выводов по отношению к методике грамматики, то Пешковский формулирует их достаточно определенно: цель обучения грамматике состоит в выявлении отношений между звуками и значениями. Если Томсон не видел связи между обучением грамматике и орфографии, то Пешковский основу взаимоотношений грамматики и орфографии усматривал именно в том, что усвоение грамматических значений языка является тем средством, благодаря которому
1 А. М. Пешковский, Сборник статей, Гиз, М., 1925, стр. 34.
69
«подсознательные грамматические ассоциации» становятся осознанными. И наконец, если Томсон, говоря о методах обучения орфографии, непоследовательно оставался на позициях теории «образов слов», то Пешковский предлагал варьировать эти методы в зависимости от характера значений, лежащих в основе написаний тех или других морфологических частей слова. Последнее положение Пешковского приобретает особое значение потому, что оно указало путь для разработки дифференцированного подхода к обучению орфографии. Как мы увидим в дальнейшем, это станет предметом методических изысканий позднейших советских методистов.
Таковы основные положения Пешковского, характеризующие его понимание некоторых вопросов психологии обучения орфографии. Их новизна заключается в том, что Пешковский не только вновь возродил теорию грамматистов о сознательной природе орфографического навыка, опирающегося на грамматические обобщения, но попытался вскрыть и тот характер отношений, который при орфографическом письме существует между усвоением грамматики и орфографии. Основу сознательного обучения орфографии он видел в знании грамматической структуры языка, в понимании значений и функций морфем языка и установлении ассоциаций между значениями и графическим образом морфем. Это, несомненно, углубляет и конкретизирует грамматическую теорию орфографии Ушинского, так как отвечает на вопрос, в чем именно заключается роль грамматики для сознания пишущего, – на который грамматисты не давали ответа.
Однако, как известно, если Пешковский в области лингвистического исследования создал стройную систему, то методические взгляды его остались мало систематизированными. Отсюда вытекает противоречивость и ошибочность некоторых из них.
Прежде всего следует отметить, что Пешковский недооценивал роли устной речи в образовании тех «подсознательных» обобщений, которые, по его мнению, оказывали существенное влияние на усвоение орфографии. Основной упор он делает в этих случаях на практику письменной речи, считая, что письменная речь «особая, самостоятельная» и что, следовательно, грамматические ассоциации возникают у учащихся лишь в процессе
70
письма. При этом Пешковский упускал из виду, что, па-ряду с существенными различиями, существующим» между устной и письменной речью, письменную речь роднит с устной единство грамматического строя языка, а стало быть, и единство языковых значений. Поэтому, если придавать, как делал это Пешковский, большое значение усвоению семантики языка, то следует признать, что усвоение форм и значений (как реальных, так и грамматических) может происходить не только в орфографической практике ребенка, но и в практике устной речи. Многочисленные наблюдения за развитием речи ребенка показывают, что подобного рода обобщения грамматических форм, хотя и не вполне осознанные, играют большую роль в овладении речью. На это, как мы видели, указывал еще Ушинский, выдвигая понятие «чутья языка». Таким образом, нет достаточного основания полагать, что при овладении орфографическим письмом предшествующее речевое развитие ребенка не влияет на выработку ассоциаций орфографическою рода. Противоречит общему духу взглядов Пешковского и то, что он для усвоения правописания корней слов рекомендует «зрительный метод», основанный на повторном восприятии начертаний слов, «как при усвоении слов иностранного языка», причем существо зрительного метода заключается, по Пешковскому, в «автоматической ассоциации зрительно-рукодвигательных образов слов с их значениями» '. В основе такого исключения правописания корней из области орфографии, усваиваемой па основе предварительной обобщающей работы мышления, лежит неправильное представление Пешковского о том, что усвоение значения корня слова происходит па наглядной основе. Он считает, что для усвоения корня достаточно связать в воображении ребенка данное слово с наглядными представлениями предметов и явлений реального мира. Так, по поводу корня слова деревня, Пешковский пишет: «Он (этот корень. – Д. Б.) должен быть как можно теснее связан с так называемым «значением» слова, т. е. в данном случае с картиной ряда изб, овинов, изгородей, поросенка, кур, петухов и т. д.»2.
'А. М. Пешковский, Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики, Гиз, М., 1930, стр. 9.
2 А. М. Пешковский, Сборник статей, Гиз, М., 1925, стр. 34.
71
Важность наглядных представлений для усвоения значения цельного слова вряд ли можно оспаривать, нельзя отрицать также, что понимание значения слова является основой для понимания его корневого значения. Но поскольку корневое значение по своей природе абстрактно, его усвоение не может сводиться к воспроизведению связанных с ним наглядных представлений. Наоборот, слишком большая связанность значения корня наглядным образом может оказать тормозящее влияние на установление сходства данного корня с другими однокоренными словами, реальное значение которых расходится со значением исходного слова. Факты подобного рода «узости обобщения» хорошо известны психологам, а практика школы постоянно встречается с ошибками учеников, вызванных именно этим психологическим фактом (однокоренные слова не признаются таковыми вследствие различия их лексических значений: час – часовой, жар– жаркое, стол– столяр и т. п.). Таким образом, нет никаких оснований исключать правописание безударных корней из числа орфограмм, требующих для своего усвоения отвлечения и обобщения. Пешковский, безусловно, прав, когда говорит о психологической разнородности усвоения значений корней как значений реальных или лексических и усвоения тех значений, которые Пешковский называет «формальными». Это различие, несомненно, отражается и на процессе усвоения орфографии, но принципиальной психологической «противоположности» (как выражается Пешковский) между ними не существует. Усвоение как реальных, так и формальных значений требует сложной абстрагирующей деятельности сознания.
* *
Постановления партии и правительства о школе в 1931 и 1932 гг. полностью восстановили в правах систематическое преподавание грамматики. Тем самым были осуществлены чаяния передовой педагогической мысли. Путанице, которую вносили противники преподавания грамматики в дискуссию о «пользе и вреде» грамматических знаний для усвоения орфографии, был положен конец. Освободившись от пут ложных теорий, сковавших прогрессивное развитие дела обучения и воспитания, ра-
72
ботники педагогического фронта всю свою энергию отдали решению тех новых задач, которые были поставлены перед школой этими постановлениями.
Борьба за культуру устной и письменной речи, за орфографическую грамотность письма стала одной из первоочередных задач школы. В области обучения орфографии задача повышения успеваемости прежде всего потребовала разработки таких методов обучения, которые наилучшим способом могли использовать те знания, которые давались учениками на уроках грамматики. Многие методы, разработанные ранее грамматистами, нашли при этом свое применение, но вместе с тем была начата большая теоретическая и практическая работа по дальнейшему улучшению обучения на основе связи грамматики с орфографией.
К сожалению, мы не знаем работ, освещающих историю развития методики орфографии этого периода существования советской школы. Но надо полагать, что в основном то новое, что было сделано в этот период, связано прежде всего с разработкой вопросов дифференцированного подхода к обучению орфографии.
Вопрос о дифференциации методов обучения орфографии исторически был тесно связан с изучением особенностей русской орфографии. Работы Томсона продолжали другие лингвисты (Д. Н. Ушаков, В. А. Богородицкий, Л. В. Щерба и др.). В результате их исследований были намечены три основных принципа русской орфографии: фонетический, этимологический (или морфологический) и традиционный (или исторический). В наиболее распространенном толковании проявление фонетического принципа усматривалось в подчинении орфографического написания орфоэпическому произношению; к орфограммам традиционного написания относили написания, не имеющие грамматических аналогий, встречающиеся наиболее часто в словах иностранного происхождения; наконец, морфологическими написаниями считали написания орфограмм, единообразно обозначающих одни и те же морфемы, независимо от их произношения.
В соответствии с различной языковой природой этих трех видов орфограмм методистами рекомендовались различные методы их изучения: фонетическая орфография требовала изучения методами, основывающимися на
73
слуховом и речедвигательном анализе слов, традиционная – на зрительно-двигательном запоминании, а морфологическая – на изучении грамматических правил.
Однако различение методов при обучении правописанию орфограмм, соответствующих этим трем принципам русской орфографии, нельзя полностью считать достижением данного периода развития методики. Известно, что еще Буслаев и Ушинский выделяли орфограммы, для которых достаточно знать общее правило: «Пиши, как слышишь», а Тихомиров и некоторые другие грамматисты указывали на необходимость запоминать отдельные слова, не охватываемые правилами. Как среди грамматистов, так и среди их противников характер усвоения этих орфограмм не вызывал особых сомнений. Как мы видели, споры и дискуссии велись вокруг методов обучения правописанию морфологических написаний.
Общественное признание важнейшего значения грамматики в обучении правописанию поставило перед методикой задачу дальнейшей разработки дифференцированного подхода в обучении орфографии. Наиболее остро ощущалась необходимость провести типизацию орфограмм внутри морфологических написаний. К заслугам А. М. Пешковского поэтому надо отнести то, что он первый поставил этот вопрос и выдвинул теоретический принцип, который, по его мнению, должен быть применен к исследованию данного вопроса. Причины различного усвоения этих орфограмм он видел, как это уже отмечалось нами, в различии грамматических значений. Но сам он проводил это различение лишь по отношению к корневым орфограммам и орфограммам, оформляющим формальные грамматические значения.
Вопрос о дальнейшей дифференциации орфограмм и методов их изучения Пешковским не затрагивался, да и то, что им было в этом отношении сделано, носило скорее характер отдельных замечаний, чем систематического исследования вопроса.
Тем не менее идея Пешковского о типизации орфограмм в зависимости от грамматической функции, выполняемой той или другой морфемой, нашла свое отражение в работах других методистов (М. В. Ушаков, Н. С. Рождественский, Е. С. Истрина, И. Р. Палей и др.).
М. В. Ушаков считал, что вслед за признанием важности морфологического принципа следует сделать ряд
74
конкретных методических выводов. «Во-первых, – писал он, – нужно признать очень большое значение за тем, в какую морфологическую часть слова входит данная орфограмма. Особенности этих морфологических частей – не менее важный, не менее «принципиальный» признак, чем единообразие обозначения или проверяемость сопоставлением. От характера этих значений зависит вся сумма методических приемов (разрядка наша. – Д. Б.), рассчитанных как на сознательное усвоение, так и на механическое запоминание. Орфограмма корня гораздо легче, например, поддается механическому запоминанию, чем орфограмма окончаний» '.
Автор, к сожалению, не развивает более подробно этой мысли, поэтому остается неясным, в какой мере различия орфограмм влияют на психологию процесса письма, но свою идею он воплощает в практическое руководстве для учителей. (Методика правописания, изд. 1, 1936; изд. 2, 1947.)
В этой книге, в отличие от традиционного способа изложения – описания различных видов методических приемов безотносительно к случаям их применения, – свои методические указания Ушаков приурочивает к орфограммам, подчиняющимся разным принципам правописания, а внутри морфологической орфографии – к разным морфемам.
Он выделяет орфограммы, обозначающие звуки в опорном положении, орфограммы корней и приставок и, наконец, правописание флексий различных частей речи. Применительно к отдельным видам орфограмм находят свое место самые разнообразные методы и виды упражнений.
Однако следует отметить, что если выбор того или иного упражнения в книге Ушакова в достаточной мере обоснован теми или другими свойствами орфограммы, го оценка их психологической роли остается у него мало разработанной.
В своей «Методике» он касается психологических вопросов лишь в очень общей форме, говоря о «первенствующей роли сознательности» и необходимости «в зави-
1 М. В. Ушаков, Еще раз о принципах нашего правописания, «Русский язык и литература в средней школе», 1935, № 4.
75
симости от характера орфограммы, то применять правило, то полагаться на зрительную память» '.
Говоря, например, о правописании ци – цы, он пишет, что «в помощь зрительно-двигательному запоминанию в начальной школе может быть дано... правило». Для правописаний корней, по его мнению, «большое значение имеет зрительно-двигательное запоминание... меньшее значение имеют правила и обобщения», хотя в дальнейшем он правильно подчеркивает важность сопоставления однокоренных слов, составления «гнезд» корней и упражнений, выполняемых «как определенные грамматические задания». В отношении правописания флексий Ушаков советует больше привлекать грамматику.
Такое рядоположение «зрительно-двигательного запоминания» и правила, когда их роль в процессе письма измеряется в количественных терминах «больше» или «меньше», не могло обогатить представления о психологических особенностях усвоения отдельных видов орфограмм. В таком подходе многое еще напоминает эклектизм пресловутой «теории фактов». Во втором издании книги даже эти общие указания на психологическое своеобразие усвоения отдельных типов орфограммы автором были в большей части изъяты, и методические рекомендации приняли вид догматических утверждений, не подкрепленных психологическим анализом. В результате, в соответствии с дифференциацией орфограмм по их принадлежности к той или другой морфеме, были распределены и методы обучения, но зависимость между методом и типом орфограммы осталась не раскрытой. Поэтому «Методика» М. В. Ушакова при всем се практическом значении оставляет психологические вопросы обучения без рассмотрения.
Гораздо больше внимания М. В. Ушаков уделил теоретическим вопросам, связанным с лингвистической характеристикой свойств' русской орфографии. В этом отношении он значительно углубил понимание трех принципов русского правописания. Традиционное распределение орфограмм согласно этой теории кажется ему слишком схематичным и не вполне последовательным. Один из недостатков теории «трех принципов» он видит
1 М. В. Ушаков, Методика правописания, Учпедгиз, М, 1936, стр. 12.
76
в том, что Она не учитывает методических интересов. Для того чтобы исследование состава русской орфографии могло оплодотворить методические искания, он выдвигает другой метод исследования.
Если до сих пор при изучении этого вопроса отношения между звуками и буквами определяли, отправляясь от написаний, рассматривая, какие звуки соответствуют каждому из них, то, по его мнению, более плодотворным является обратный метод: отправляясь от звуков, рассматривать, какие написания им соответствуют. Ценность такого анализа М. В. Ушаков видит в том, что этот путь соответствует процессу, который совершается при письме. Применив этот принцип анализа, М. В. Ушаков выделил следующие группы орфограмм: а) определяемые произношением, б) не определяемые произношением. В первом случае между данным звуком и данной буквой существуют постоянные отношения и наблюдается .соответствие произношению. Во втором случае этого соответствия не существует: при одном и том же произношении написание может быть различным. Так, например, звуку а в безударном положении могут соответствовать и а (трава) и о (вода). В этой группе он выделяет такие орфограммы, которые могут определяться произношением, но не прямо, а косвенно, путем сопоставления с другими словами, морфологически родственными данному слову. Автор полагает, что подобная классификация, хотя и имеет сходство с «традиционными тремя принципами» (определяемые произношением – фонетический; косвенно определяемые – морфологический; не определяемые – условный, или традиционный), но имеет то преимущество, что не допускает смешения границ между принципами '.
Если отвлечься от лингвистических достоинств этой классификации, о которых мы судить не беремся, надо заметить, что, как нам кажется, она отвечает цели – «служить интересам методики» не в большей мере, чем традиционное деление по трем принципам. По крайней мере ни в излагаемой работе, ни в дальнейших публика-
1 М. В. Ушаков, Научно-лингвистические основы методики правописания, «Русский язык в советской школе», 1930, № 2. См. также: А. Н. Гвоздев, Основы русской орфографии, изд. АПН РСФСР, М., 1947.
77
циях автор не может вывести из этой классификации более подробной характеристики процесса усвоения, чем обычное общее указание на опору в одних случаях на слуховой и речедвигательный анализ, в других – на зрительное и моторное запоминание, а в третьих – на роль грамматики и правила. Нам не кажется это случайным, поскольку автор, несмотря на изменение метода анализа состава орфографии, оставался, как и критикуемые им лингвисты, в пределах соотношения звуковой и буквенной стороны изучаемых явлений. Характеристика же грамматических значений, усвоение которых он сам же считал одним из важнейших условий правописания морфологических орфограмм, оставалась при этом методе анализа вне поля зрения в той же мере, как и у прежних исследователей. Нельзя возражать против необходимости изучать соотношение звуковой и буквенной оболочки языка, но надо полагать, что изучение этих сторон правописания изолированно от его семантической стороны не может считаться исчерпывающим.
На это обстоятельство справедливо указывал в свое время Н. С. Рождественский. В одной из своих работ он дает классификацию орфограмм, исходя так же, как и М. В. Ушаков, из характера отношений между звуками и буквами. Но при этом он считал, что ограничение изучения состава орфографии пределами такого соотношения не исчерпывает вопроса о типологии орфограмм и их усвоения, так как изучение орфографии требует грамматического осмысления, что в этих условиях не может быть учтено в достаточной мере.
При сознательном обучении необходимо, чтобы преподаватель подводил учеников к пониманию того факта языка, что звуки связаны со значением, что звуки способствуют различению слов. «Ведь орфография, – пишет Н. С. Рождественский, – 1) система (лучше системы) соотношений одних написаний с другими родственными и противоположными написаниями, 2) система соотношений написаний с звуковым составом языка, 3) система соотношений с морфологическим строем слова. Урегулировать, правильно воспитать это соотношение и должна школа» '.
-' Н. С. Рождественский, К характеристике современной русской орфографии, «Русский язык в школе», 1936, № 3.
78
Итак, на примерах разобранных работ можно видеть, что, во-первых, вопрос об улучшении методов обучения орфографии в изучаемый нами период в представлении методистов тесно связывался с вопросом об их дифференциации в зависимости от языковых особенностей орфограмм; во-вторых, такими основными особенностями признавались: 1) соотношение фонетики и написания и 2) соотношение орфограммы с ее грамматическим значением.
Приходится также признать, что попытки перейти от такого научно-лингвистического описания фактов языка к обоснованию методов обучения не пошли далее указаний на некоторые общие психологические особенности этих методов.
Однако в методике орфографии можно обнаружить тенденцию разрешить вопрос о дифференциации методов преподавания, исходя из изучения не только особенностей орфограмм, но и характера орфографических правил. Такое направление анализа, с нашей точки зрения, представляет то преимущество (для решения психологических вопросов), что приближает исследователя к реальной орфографической деятельности ученика, поскольку правило как особый род задачи предопределяет до известной степени характер деятельности ученика при ее решениях. Поэтому, типизируя правила, исследователь должен неизбежно, хотя бы гипотетически, представлять при этом не только лингвистическую, но и психологическую сторону дела.
В этом отношении заслуживает рассмотрения анализ правил, предложенный Е. С. Истриной, а также И. Р. Палеем.
Истрина, исходя из классификации орфограмм, произведенных ею на грамматических основаниях, приходит к некоторым методическим обобщениям. Она намечает три группы орфографических правил: во-первых, «правило как указание, как критерий для написания (пишется жа, ча, ша, ща)»; во-вторых, «правило как вспомогательный прием анализа формы (ек–ик; мягкий знак в повелительном наклонении перед -ся, -те)» и, в-третьих, «правило как напоминание о необходимости анализа в известном направлении, (ь перед -ся в неопределенной форме)». «Соответственно этому различию, – пишет она,– приходится различно судить и о методическом значении
79
правила, различно пользоваться правилами в методической практике» '.
Е. С. Истрина не связывает непосредственно выделенные типы правил с психологией их усвоения, но дает методические указания по поводу различного характера объяснения этих трех типов правил учителем. Она полагает, что в то время как первый этап правил («точное указание») может сообщаться учителем догматически в готовом виде, два последних требуют наблюдения над орфографическими фактами и самостоятельной деятельности учеников при их обобщении.
К первой группе правил Е. С. Истрина относит лишь незначительную часть орфограмм русского языка, называемую ею звукографической, т. е. те условные написания, которые не соответствуют общим положениям русской графики. При этом она упоминает лишь о двух случаях: правописании гласных после шипящих и сочетаний чн, чк, чт, нч, нщ, пишущихся без ь, несмотря на смягченный первый согласный. Для закрепления правил в этих случаях достаточно «зрительных и рукодвигательных восприятий». Усвоение всех остальных правил, по мнению автора, в той или иной степени связано с грамматическим анализом (морфологическим и синтаксическим).
И. Р. Палей дает типологию правил в значительно расширенном и более дифференцированном виде2. Он выделяет шесть типов правил, причем оговаривается, что они охватывают лишь орфограммы, изучающиеся в начальной школе взрослых.
- Орфограммы, опирающиеся па прямое правило, не допускающее никаких отклонений. (Пример: правило о правописании гласных после шипящих.)
- Орфограммы, опирающиеся на прямое правило, осложненное обратными вариантами. (Правило о правописании цы и ци.)
- Орфограммы, опирающиеся на грамматические понятия и требующие различных проверок. (Примеры многочисленны: безударные гласные в корне, предлоги и
1 Е. С. Истрина, Грамматические основы правописания, «Из
вестия Ленинградского пед. института им. Герцена», вып. 1, 1928,
стр. 39. См. также: К. В. Бархин и Е. С. Истрина, Методика
русского языка и средней школе, М., 1934, стр. 96
2 И. Р. Палей, Методика русского языка в занятиях со взрос
лыми, Учпедгиз, М., 1941, стр. 144–146.
80
приставки, различение -тся и ться в глаголах и т. п.) Автор замечает при этом, что подавляющее большинство орфограмм этой группы имеет «обратные варианты»,
- Орфограммы, опирающиеся только на смысловые признаки. Большая буква в именах собственных).
- Орфограммы, опирающиеся на слуховые признаки. (Пример: ь как знак мягкости.)
- Орфограммы, опирающиеся только на зрительно-двигательные впечатления (непроверяемые безударные гласные, традиционные написания).
По сравнению с классификацией Истриной в этой классификации имеется ряд дополнительных групп правил. Так, с психологической точки зрения важно выделение орфограмм, требующих слухового анализа, орфограмм, носящих «смысловой характер», орфограмм, опирающихся на «зрительно-двигательные впечатления». С логической точки зрения эту классификацию можно упрекнуть в невыдержанности логического основания деления. Так, первые два типа характеризуются особенностями самого правила («прямое» без вариантов и с вариантами), последние же три типа (4,5,6) характеризуются безотносительно к характеру правил на основе особенностей самих орфограмм; третий тип (опирающийся на грамматические понятия и требующий проверок) совмещает признак первых двух типов («непрямое») и в то же время характеризуется опорой па грамматику. По если считаться только с признаками первого рода, как относящимися непосредственно к характеристике тех действий учащихся, которые необходимы для выполнения правила, то мы увидим, что, помимо признаков «прямого» и «косвенного» характера правил (что отмечается и в классификации Истриной), автор вносит весьма существенный признак правила: отсутствие или наличие указанных в нем вариантов написаний.
И. Р. Палей отмечает далее, что усвоение подавляющего большинства орфограмм, опирающихся на грамматические понятия, осложняется тем, что они имеют обратные варианты. Например: в словах дуб и суп в конце произносится один глухой звук п, а буквы пишутся различные.
Учащимся приходится при этом видеть и писать два различных написания одной и той же грамматической части слова. От ошибок в таких случаях долгое время
81
ограждает только напряженная работа сознания. Правила, не осложненные вариантами (например, правило о правописании приставок от, под, над, которые всегда пишутся одинаково), усваиваются легче, потому что такая орфограмма «усваивается не только с помощью правила, а и зрительно-двигательным путем».
Исследования Истриной и Палея, направленные на установление типологии правил, вносят в вопрос о дифференцированном подходе к обучению орфографии новый и весьма важный элемент. Истрина, вводя понятия «правила-указания», «правило-прием анализа», «правило, указывающее лишь направление анализа», и Палей, различающий усвоение правил с вариантами или без них, делают предметом исследования не только языковые особенности орфограмм, но и способы деятельности учителя и ученика. Поэтому следует признать что избранный ими путь анализа правил дает возможность пойти дальше в разрешении чисто методических вопросов, чем одно исследование состава орфографии, хотя, конечно, исследование характера правил невозможно без научного понимания природы орфографии. Однако разработка вопроса о типологии правил должна опираться не только на гипотетически предполагаемые особенности деятельности ученика, но и на научно установленные психологические закономерности процесса усвоения этих правил. Аполлос Соболев еще в 1900 г. писал: «Орфограмма, ее положение в грамматике и отношение к познающим силам ученика являются краеугольным камнем методики правописания» '. Это совершенно правильное положение Соболева требует для своей реализации совместной работы методистов и психологов.
При этом условии вопрос о типологии правил и их усвоении может быть изучен более глубоко и всесторонне. Дальнейшее наше изложение покажет, что психологические исследования в значительной своей части были посвящены именно этому вопросу. В этих исследованиях предметом изучения были особенности усвоения учащимися отдельных орфографических правил.
Те затруднения, с которыми столкнулись методисты при попытках классифицировать правила по их языко-
1 Aп. Соболев, Критический обзор способов обучения правописания, Спб., 1900, стр. 87.
82
вой природе в единстве с психологической характеристикой их усвоения, не могли затормозить реализации идеи дифференцированного обучения в чисто практическом плане.
Мы уже видели, что именно такой путь изложения избрал в своей «Методике правописания» М. В. Ушаков еще в 1936 г. С тех пор характерной чертой развития советской методики орфографии стало решение методических вопросов дифференцированно по отношению к отдельным орфографическим правилам, к отдельным орфографическим «темам». На «Педагогических чтениях», организуемых Академией педагогических наук, в методических журналах все чаще стали появляться работы, посвященные разработке методики преподавания отдельных тем программы. Такая конкретизация разработки методики орфографии представляет резкий контраст с тем временем, когда методические вопросы решались без учета языковых и психологических особенностей усвоения орфограмм и когда учитель становился в тупик перед вопросом, какие же рекомендуемые методикой приемы обучения следует применять в том или ином конкретном случае.
Признание органической связи обучения орфографии с изучением грамматики, попытки методистов приспособить методы обучения к особенностям грамматического строя языка сказались не только в стремлении детализировать методику. В работах некоторых ведущих методистов обнаружилась тенденция, наряду с подобным детализирующим изучением, учитывать некоторые психологические закономерности усвоения орфографии. Такая постановка вопроса привела к выдвижению методов обучения, основывающихся на сравнении и противопоставлении орфографических фактов.
Еще Пешковский указывал на то, что выделение грамматикой различных грамматических форм стало возможным благодаря тому, что слова в языке образуют два соотносящихся друг с другом ряда: сходные по своим вещественным частям, но различные по формальным (например, стекл-о, стекл-а, стекл-янный, стекл-яшка, стеклышко и т. д.) и, наоборот, различающиеся вещественными частями и сходные по формальным (например, стекло, окно, весло, сукно, долото и т. д.). Осознание этих черт
сходства и различия и привело лингвистов к выделению
83
в словах русского языка их основных морфологических элементов и в первую очередь вещественных (стекл-) и формальных (-о) частей. Такое разделение слов на части и объединение их в однородные группы могло произойти, как думает Пешковский, лишь в результате сравнения. «Возьмем, например, слово стекло, – пишет Пешковский. – Оно нам кажется состоящим как бы из двух частей: стекл- и -о. Происходит это оттого, что мы невольно, сами того не сознавая, сравниваем слово стекло с другими словами, на него похожими. Так, мы сравниваем его со словами стекла, стеклу, стекАом, стеклянный, стеклышко, стекляшка, застеклить, стеклярус и т. д. От этого сравнения у нас выделяется в сознании сходная во всех этих словах часть стекл-. В то же время мы сравниваем слово стекло и с такими словами, как весло, помело, перо, серебро, полотно, сукно, долото, кольцо и т. д. От этого сравнения у нас выделяется сходная часть -о. Таким образом, стекло распадается на стекл + о»'.
В дальнейшем Пешковский показывает, что выделение других морфологических элементов слова (суффиксов и приставок) также основывается на подобном сравнивающем изучении других рядов слов, частично сходных и частично различных.
Подходя таким образом к особенностям грамматического строя языка, Пешковский, с одной стороны, дает лингвистическую характеристику грамматического строя языка как системы соотносящихся друг с другом грамматических форм, с другой – указывает на психологические черты того процесса, на котором основывается осознание данных закономерностей языка. Это – выделение форм языка путем их сравнения и сопоставления.
Пешковский применил этот метод исключительно к изучению грамматики, не делая при этом выводов по отношению к орфографии.
Первые попытки перенести на орфографию метод сопоставления были сделаны Н. С. Рождественским.
Рождественский в одной из своих работ 2 отмечал, что, несмотря на общее признание наличия связи между грам-
1 А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освеще
нии, изд. 7, Учпедгиз, М., 1956, стр. 11.
2 Н. С. Рождественский, Метод сопоставления в заняти
ях по орфографии, «Русский язык и литература в средней школе»,
1935, № 4.
84
матикой и орфографией, практически в школе эта связь осуществляется чисто внешне, терминологически. «Правила правописания, – писал он, – даются как особый, изолированный ряд, не имеющий внутренней связи с тем, что изучается в другом, грамматическом ряду». «Не видя в орфографии системы, не понимая ее основных тенденций, ученики обычно представляют себе правописание как свод разрозненных, не объединенных между собою правил и еще более многочисленных исключений к ним». Между тем, указывает Рождественский, русское правописание, будучи морфологическим, представляет собой систему, основанную на аналогиях и противопоставлениях. Отсюда он заключает, что в соответствии с природой орфографии основным методом изучения должен быть метод сопоставлений орфографических фактов языка. Вместе с тем, аргументирует дальше автор, «мы не должны забывать, что усвоение орфографии в значительной мере мыслительный процесс, а сущность последнего заключается, как известно, в установлении связей и отношений: мы все познаем через сравнение». В качестве практических мер автор предлагает применять в школе методы, основанные на сопоставлении с родственными формами слов, аналогию, отыскивание опорной орфограммы.
Наряду с сопоставлением Рождественский указывает на необходимость применять в обучении и противопоставления, т. е. «одно и то же написание, – писал он, –будучи аналогично другому в каком-то отношении, может быть противопоставлено в другом отношении третьему».
Автор приводит ряд примеров с целью показать, что таким методом школа пользуется издавна, но что этот прием применяется не систематически и без ясного осознания его значения. Между тем, по его мнению, сопоставление и противопоставление как методы обучения должны найти в преподавании широкое применение.
Н. С. Рождественский в ряде последующих работ развивает и уточняет эти общие положения. Наиболее четкие и ясные формулировки по этому поводу мы находим в его статье: «Противопоставление как одно из свойств морфологического правописания»'.
«Русский язык в школе», 1946, № 3–4.
85
В этой работе автор прежде всего конкретизирует свое, исходное положение о том, что морфологическое письмо, унифицируя орфографию, одновременно устанавливает и различия; аналогия и противопоставление есть органический результат морфологического письма. Он приводит систематический и подробный обзор «дифференцирующих написаний», которые служат на письме для различения значений омонимических корней, приставок, суффиксов, флексий. Этот материал автор приводит в качестве доказательства того положения, что подобные дифференцирующие написания в орфографии образуют целостную систему. Свои взгляды Рождественский обосновывает и психологически. Он пишет, что осмысленное восприятие – залог правильного понимания и прочного запоминания, а грамматический и орфографический материал лучше понимается, если один факт противопоставляется другому, в каком-либо отношении его напоминающему.
Переходя к использованию метода противопоставления при объяснении правила, автор указывает, что при усвоении нового правила большое значение имеет возникновение в сознании ребенка определенной проблемы, вопроса – как писать. Наилучшим же условием для этого является использование учителем противопоставления двух омонимических орфограмм, например деревне и деревни. Далее Рождественский показывает, что и на следующих этапах обучения при постепенной выработке навыка приемы сравнения и противопоставления также имеют большое значение, так как, выполняя те или другие орфографические упражнения, ученики все время должны пользоваться этими приемами.
Наиболее полно психологические данные использованы в книге Рождественского «Обучение орфографии в начальной школе», особенно во втором ее издании'.
Через всю книгу проходит мысль о сознательном происхождении орфографических навыков, о развитии активности мышления и самостоятельности учащихся в процессе усвоения орфографии. В краткой форме выражено общее требование к обучению орфографии: ни одной орфографической работы без работы мысли.
1 Н. С. Рождественский, Обучение орфографии в началь-ней школе, изд. 2, Учпедгиз, М., 1960.
86
Если мы вспомним утверждение Томсона о том, что мышление только препятствует формированию орфографического навыка, то станет очевидным, как далеко ушла современная методическая мысль от механистических теорий антиграмматистов.
Вместе с тем Рождественский отстаивает необходимость пропедевтического курса в I и II классах как подготовительного этапа к сообщению учащимся грамматической теории. Он считает, что уровни сознательности в обучении орфографии различны, что прежде чем учащиеся смогут овладеть грамматическими обобщениями, они должны пройти через следующие ступени: «1) чтение л списывание текста, который не анализируется со стороны орфографии и на который в этом отношении не обращается специального внимания; 2) чтение и письменные работы с текстом, в котором орфограммы подобраны соответствующим образом, причем внимание учащихся специально на этих орфограммах не заостряется; 3) те же работы, но дети внимательно рассматривают явления и устанавливают известные закономерности, хотя и не пользуются при этом грамматической терминологией»1.
Это положение, с нашей точки зрения, кажется по меньшей мере спорным. Автор полагает, что и первые две ступени, когда внимание учащихся «не заостряется» на орфографической стороне текстов, относятся к сознательному обучению, так как ребенок «вполне сознательно выделяет из слов звуки, производит звуковой анализ и синтез». Конечно, такие работы необходимы, как и целый ряд других, направленных на овладение графикой письма. Но Рождественский вполне определенно сам разграничивает обучение алфавитной графике и собственно орфографии (там, где произношение расходится с написанием). Тогда становится непонятным, какую роль для «собственно орфографии» играют такие работы, при которых внимание учащихся на орфографию не обращается. Вряд ли такую деятельность учащихся можно назвать сознательной с орфографической точки зрения.
Спорен вопрос и о необходимости пропедевтического курса в начальной школе и о его длительности. Данные
1 Н. С. Рождественский, Обучение орфографии в начальной школе, изд. 2, Учпедгиз, М., 1960, стр. 58.
87
психологических исследований, о которых будет речь в последующих главах, показывают, что дети I класса способны на орфографические обобщения, а держать от них «в секрете» грамматические термины, которыми обозначаются эти обобщения, скорее затрудняет, чем облегчает сознательное усвоение орфографии.
В нашей начальной школе вообще занижаются возрастные возможности учащихся. Это показало опытное обучение в I–IV классах, организованное психологами Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым. В частности, ими успешно было проведено обучение систематическому курсу грамматики начиная с I–II классов. Эти опыты повторяются в большом количестве школ, и если они пройдут с таким же успехом, то будет доказана ненужность пропедевтического курса.
Подытожим кратко все сказанное об особенностях развития психологических взглядов советских методистов на обучение орфографии.
Первые годы существования советской школы ознаменовались возрождением взглядов, по которым формирование орфографических навыков и умений представлялось как сложный процесс, характеризующийся активной работой мышления и лишь постепенно переходящий в автоматизированное письмо. В связи с этим был вновь поставлен вопрос о связи орфографии с грамматикой. Постановления партии и правительства 6 школе полностью восстановили в правах преподавание в школе грамматики как основы изучения русского языка, открыв тем самым широкие возможности дальнейшей разработки методических вопросов об особенностях обучения орфографии на грамматической основе. В методике это помогло отбросить представление антиграмматистов о существовании единого универсального метода обучения орфографии, который сводился к созданию наилучших условий для запоминания «образов слова». Встал вопрос о дифференциации методов обучения, основанных на грамматике. В связи с этим возникла потребность конкретизировать общее представление о грамматических обобщениях как основе навыка. А. М. Пешковский выдвинул положение о роли грамматической семантики в усвоении орфо-
88
графий. Задачу грамматического обучения орфографии он увидел в создании прочных связей значений морфем с их графическим образом и двигательными реакциями письма. Он не развил этого положения, но указал, что при таком понимании психологического механизма орфографии методы обучения должны варьироваться в зависимости от характера грамматических значений, языковая природа которых весьма разнообразна. Но сам он иллюстрировал это положение лишь на различии психологических основ правописания корней в противоположность остальным морфемам, причем такое противопоставление, как мы указывали, является неправомерным. В дальнейшем точка зрения Пешковского нашла сторонников среди других методистов, практически была в той или другой степени реализована ( М. В. Ушаков), но дальнейшей психологической разработке не подвергалась.
Другая линия в разработке вопросов дифференциации методов обучения связана с чисто лингвистическим исследованием основ русской орфографии. Различия в психологии усвоения правописания намечались прежде всего в отношении орфограмм, реализующих три разных «принципа»: фонетический, традиционный и морфологический. Фонетическое письмо, как непосредственно определяемое произношением, требовало методов, основанных на слухоречедвигательном анализе; для усвоения традиционных написаний рекомендовалось запоминание графического образа слов. По отношению к морфологической группе написаний общепринятым положением явилось признание необходимости основывать обучение на орфографических правилах, предписывающих единообразное написание одних и тех же морфем. Можно поэтому сказать, что если ранее под единицей орфографии упрощенно понималось цельное слово, то теперь слово рассматривалось как сложный комплекс различных морфем, входящих в его состав, а грамотное письмо – как умение одинаково обозначать при письме различных слов одни и те же морфемы.
После Пешковского каких-нибудь новых исследований психологических особенностей такого письма не производилось, но была сделана попытка систематизировать приемы обучения вокруг правописания одних и тех же морфем (М. В. Ушаков).
89
Другая попытка дифференцировать методы обучения была связана с анализом орфографических правил. Поскольку каждое правило не только нормирует правописание, но и заключает указания на тот или иной способ действий ученика, необходимых для правильного письма (подбор опорных форм, выделение морфемы, определение варианта правописания и т. п.), постольку анализ правил дает по сравнению с анализом орфограмм дополнительные возможности для конкретизации психологии их усвоения. Тем не менее этот анализ не был основан на изучении реального процесса усвоения, и потому по необходимости мог быть лишь гипотетическим.
Наряду с разработкой вопроса о дифференцированном подходе к обучению орфографии, внимание методистов привлекли проблемы, связанные с характеристикой общих психологических черт процесса сознательного усвоения орфографии. На помощь школе приходит психологическая наука. Она все больше привлекает внимание методистов и педагогов. Ее выводы, основанные на экспериментах, помогают школе понять, как протекает процесс усвоения знаний и навыков у учащихся, с какими трудностями они встречаются при этом, какие методические пути ведут к облегчению и успешному усвоению содержания школьных программ.
ГЛАВА III
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА
«Навыки – это автоматизированные компоненты сознательной деятельности, вырабатывающиеся в процессе ее выполнения» '. Так наиболее сжато определяется навык в советской психологии.
Это определение имеет самый общий характер и относится в равной степени как к двигательным навыкам (например, езда на велосипеде), так и к умственным, в том числе и к правописанию.
Термин «автоматизированный» следует отличать от термина «автоматический». В отличие от последнего он обозначает способ образования навыка как действия, вначале основывающегося на сознательном применении определенных правил и лишь затем в процессе упражнений подвергающегося автоматизации.
Такое понимание психологической природы навыков принципиально отличается от механистических теорий, проанализированных нами выше и характерных не только для методистов, но и для некоторых зарубежных психологов конца XIX и начала XX столетия (Торндайк, Уотсон, Лай, Мейман и др.). По их мнению, основная задача педагога заключается якобы в том, чтобы ученик воспринял правильный образ слова и связал этот образ с правильными движениями руки. Образование такой ассоциации зависело будто бы лишь от частоты повторения восприятия слова и его записи. При таком понимании
1 Б. М. Т е п л о в, Психология. Учебник для средней школы, изд. 3, Учпедгиз, М., 1949.
91
природы навыка участие мыслительной, обобщающей деятельности ученика нацело отрицалось.
Современная психологическая теория «автоматизированности» навыка является резкой противоположностью подобным механистическим взглядам.
Действительно, как в свое время указывал Томсон, грамотный не раздумывает, «где какую букву ставить». Ведь таков конечный результат обучения, но это вовсе не означает, что таким же бессознательным должен быть и путь образования навыка. Конечно, возможен и механический путь образования навыка. Еще К. Д. Ушинский отмечал, что именно такой способ обучения был характерен для дореволюционных писарей, которые добивались относительной грамотности, но он совершенно правильно отмечал, что «нужны десятки лет и беспрестанное списывание с образцов, написанных грамматически, чтобы одним навыком, без всякой помощи грамматических правил, выучиться писать правильно, да и то всякое новое слово будет ставить в тупик такого грамотея» '. Навык, вырабатываемый механическим путем, основывается на запоминании орфографии каждого отдельного слова, без обобщения сходных случаев правописания. Поэтому встреча с новым словом требует от такого «грамотея» новых упражнений для его запоминания. Но в «чистом» виде такая механическая работа памяти при обучении орфографии не свойственна ребенку. Как показали психологические исследования, ученики даже самого младшего возраста, упражняясь в письме, замечают и обобщают сходные случаи правописания и пишут новые слова, опираясь на свои наблюдения. Можно сказать, что если даже не сообщать учащимся правил, они часто создают их сами, хотя, конечно, такие «правила» нередко бывают ошибочными, и дети далеко не всегда в состоянии дать себе отчет, почему они пишут так, а не иначе. Поэтому надо предполагать, что и в работе писаря можно было бы при внимательном изучении обнаружить следы такой «подсознательной грамматики» (выражение А. М. Пешковского).
Таким образом, механические способы обучения орфографии не только антипедагогичны и неэкономны, но и
1 К. Д. Ушинский, Избр. педаг. соч., т. II, Учпедгиз, М., 1939, стр. 388.
92
вообще не свойственны активной природе человеческого ума. Орфографический материал предоставляет такую возможность для умственной работы; мышление, систематизируя и обобщая, облегчает работу памяти.
Сознательное обучение орфографии имеет еще одно преимущество перед механическим. Вторично автоматизированный, идущий вслед за знанием навык «позволяет на каждом шагу, в частности при затруднениях, вновь становиться сознательным; навык, взятый в его становлении, является не только автоматическим, но и сознательным, единство автоматизма и сознательности заключено в какой-то мере в нем самом»'. На этой особенности «сознательного навыка» – вновь становиться под контроль сознания – построена в школе вся работа по исправлению ошибок, основанная на осознании их учениками. То, что учитель сталкивается с этим фактом на каждом шагу, лучше всяких экспериментов говорит о сознательном происхождении орфографических навыков. Навык, основанный на простом запоминании орфографии слова, такой возможности не предоставляет.
Механические теории, отрицавшие идею сознательности в образовании навыков, отрицали тем самым и значение грамматики. Теория же сознательного образования навыков видит в изучении грамматических и орфографических правил русской орфографии основное средство сознательного этапа развития навыка. Это совершенно естественно. Ведь грамматика объединяет (обобщает) единичные явления языка в определенную систему, устанавливает определенные соотношения между грамматическими категориями и их, обозначениями на письме, устанавливает свойства русского правописания и т. д. Другими словами, изучение грамматики дает возможность учащимся использовать научный опыт, накопленный человечеством. Благодаря этому перед учеником в школе стоит задача не открытия заново тех или иных языковых закономерностей, а усвоения их. Такое знание закономерностей правописания и представляет основу сознательного формирования орфографических навыков.
Это придает навыку обобщенный характер, который отличается от запоминания орфографии единичных слов
1 С. Л. Рубинштейн, Основы общей психологии, Учпедгиз, М., 1946, стр. 462.
93
тем, что учащиеся уже не становятся в тупик перед новым словом, а имеют возможность подвести его под известное правило и писать в соответствии с орфографическими нормами. Навыки, образованные на подобной сознательной основе, обладают большой емкостью. Ученик, усвоив одно правило, тем самым решает вопрос о правописании всех слов, на которые это правило распространяется, и уже не нуждается в запоминании орфографии каждого отдельного слова. Естественно, что формирование подобных обобщенных навыков дает большую экономию времени. Отсюда следует, что природа обобщенных навыков основывается на мыслительных операциях обобщения и содержанием этих обобщений служат грамматические знания.
Отрицать необходимость грамматических знаний – значит или напрасно надеяться, что учащиеся сами создадут свою грамматику, или вновь вернуться к механистическим теориям обучения.
Однако не всякий материал, подлежащий запоминанию, дает возможность облегчить работу памяти путем усвоения некоторых общих правил. Это главным образом единичные факты или явления, между которыми нет никакой внутренней смысловой связи. Таково, например, запоминание номеров телефонов, некоторых дат исторических событий, имен и фамилий, ботанических или географических терминов и т. п. Но в таком случае и не говорят о выработке навыков, а усвоение таких единичных фактов относят к действию простой памяти. Такие явления наблюдаются и в орфографии. Следовательно, говоря об орфографии, следует образование навыков ставить в зависимость не только от тех или иных теоретических положений, но и от характера орфографических фактов и разрабатывать методику дифференцированно, учитывая не только психологические закономерности образования навыка, но и лингвистические особенности тех или иных орфограмм.
МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ НАВЫКОВ
Характеристика навыка как вторично автоматизированного действия предполагает выяснение вопроса о том, каков тот путь, который проходит осознаваемое действие, становящееся автоматизированным, и вопроса о тех ус-
94
ловиях, которые необходимы для этого перехода осознаваемого действия в автоматизированное.
Остановимся сначала на первом вопросе. Очевидно, что сознательным действием может быть названо действие, которое направлено на достижение хорошо осознаваемой цели. Если мы хотим, например, какое-нибудь орфографическое упражнение сделать сознательным, то необходимо ставить перед учащимися именно орфографические цели, а не какие-нибудь иные.
Не стоило бы об этом упоминать, если бы в истории методики мы не видели нарушения этой простой истины. Пример такого непонимания мы уже приводили – это неразличение понятий: «смысловое» и «орфографическое» сознательное списывание (можно списывать, ставя перед собой цель понять смысл текста, но при этом совсем не думать об орфографии).
Вторым признаком сознательного действия является возможность отдавать себе отчет в том, как, какими способами или приемами мы достигаем поставленной цели. Полностью сознательным можно называть такой отчет о своем действии, который можем выразить в своей речи.
В обучении орфографии – это тот период, во время которою педагог требует от ученика думать над орфографией и объяснять, почему ту или иную орфограмму он написал так, а не иначе.
Орфографический навык – навык сложный. Он включает в себя навык письма, умение анализировать звуковой состав слов, на основе грамматических знаний опознавать орфограмму, применить к ней нужное правило и, наконец, правильно написать орфограмму.
Эти основные умения и навыки основываются на еще более частных операциях, которые зависят от характера орфограммы. При обучении должны быть прежде всего отработаны все подобные частные операции, а для этого каждая из них на определенном этапе должна являться целью действий ученика.
Но для формирования орфографических навыков умение выполнять эти частные операции недостаточно. Е. В. Гурьянов, длительное время исследовавший природу навыков, так писал по этому поводу: «Вычленение частных действий необходимо не только для того, чтобы усовершенствовать ту или иную деталь в выполнении частного действия, но прежде всего и главнее всего для
95
того, чтобы обеспечить возможность совмещения, а затем и замещения частных действий другим, более сложным действием, включающим их в себя» '.
Для педагогики из такого понимания природы навыка вытекает важное следствие: если в обучении приходится превращать в навык сложное действие, то нельзя довольствоваться изолированными упражнениями, отрабатывающими отдельные частные действия. Если, например, мы обучаем детей начальных классов письму безударных гласных и для этого сначала обучаем изолированно умению находить ударение в слове, а затем подбирать родственные слова, то ученики затрудняются после этого сразу применять правило правописания о безударных гласных в корне, так как для этого им необходимо совместить оба эти умения. Часто наблюдается в практике школы, что ученик, сосредоточив все внимание на решении одной задачи (например, подбор родственных слов), «забывает» о второй задаче: о необходимости под-бора слов с ударением на гласной корня или, наоборот, что встречается реже, подбирает ударные формы слов, но не родственные с исходным словом.
Причины таких ошибок бывают различны, но одна из основных – в том, что обычно отсутствуют упражнения, специально направленные на отработку совмещения обоих элементов навыка в одном действии. Как показывают наши исследования, весьма полезно в начале применения правила сообщать и упражнять учащихся соблюдать определенную последовательность в решении этих двух задач и рекомендовать им такой способ действия: сначала подобрать родственные слова, а затем расставить в них ударения и выбрать для проверки слово с ударением на гласной корня. Постепенно такая последовательность способа действий ученика, отработанная в упражнениях, снимает трудность совмещения двух задач и приводит к замещению двух частных действий одним сложным.
То же самое происходит в том случае, когда обучают детей изолированно орфографии и развитию письменной речи (самостоятельное письмо). При переходе к самостоятельному письму (например, к сочинениям) обычно наблюдается обилие орфографических ошибок на те пра-
1 Е. В. Гурьянов, Навык и действие, «Ученые записки Моск. гос. ун-та им. Ломоносова», вып. 90, М., 1945.
96
вила, которые, казалось, хорошо были усвоены учениками в орфографических упражнениях. Применение орфографических правил нарушается здесь потому, что ученики не прошли до этого через этап «совмещения» двух задач: выражать свои мысли в письменной форме и соблюдать при этом орфографические норму. Учить этому надо постепенно, предлагая учащимся такие упражнения, в которых отдельные орфографические правила или группы их применяются не только в специально орфографических, но и в творческих работах учащихся.
Те изменения, которые происходят в структуре навыков при таком совмещении, объясняются некоторыми психологами следующим образом. Частное действие при его выработке является целью деятельности учеников; на достижении этой цели сосредоточивается все их внимание, другими словами, оно находится в поле отчетливого сознания. Но когда сознание ребенка направляется к достижению новой цели (например, изложение своих мыс-лей), также требующей приложения творческих сил ребенка, первое действие (в нашем примере – орфографическое) должно из «главного» действия перейти в ранг подсобного и постепенно перестать отвлекать внимание учащихся от новой цели, т.е. автоматизироваться.
Для того чтобы выработать действительно прочный навык, надо, по мнению А. Н. Леонтьева, «поставить ребенка перед такой новой целью, при которой данное дей-ствие станет способом выполнения другого действия. Иначе говоря, то, что было целью данного действия, должно превратиться в одно из условий действия, требуемого новой целью»1.
В нашем примере такое место подсобного действия занимает орфография; место главной цели – творческое письмо.
Первоначально всякое правило применяется сознательно во всех его деталях. Как же узнать, выработался ли навык и какова его прочность?
Для этого следует создать такие условия, при которых действие по правилу должно выполнять лишь подсобную роль в достижении какой-нибудь новой цели. Если при этих условиях навык не разрушается, можно быть уве-
1 А. Н. Леонтьев, К теории развития психики ребенка, «Coветская педагогика», 1945, № 4.
97
ренным в его прочности; если же он не выдерживает такого испытания, то следует вновь привлечь работу сознания и продолжить первоначальное обучение с отработкой частных орфографических действий.
С этих позиций следует решать методический вопрос о способах учета орфографической грамотности. Диктант или сочинение? Такова альтернатива, с давних пор обсуждающаяся в методических трудах. С психологической точки зрения здесь нет никакой проблемы. Диктант – это чисто орфографическая работа, никакой новой цели перед учеником не ставящая. Сочинение ставит новую цель – выражение своих мыслей, – а орфографические действия ученика становятся при этом подсобными средствами. Поэтому именно сочинение (или любой вид самостоятельного письма) способно показать, насколько созрел и упрочился орфографический навык.
Почему же в школе до сегодняшнего дня грамотность школьников учитывается по диктантам? Очевидно, это происходит не по принципиальным соображениям, а лишь из-за удобства диктантов, позволяющих включать в диктант именно те орфограммы, которые нуждаются в проверке. Но, повторяем, с психологической точки зрения, такое испытание не может гарантировать правильного измерения прочности орфографических навыков.
Каковы же те внутренние изменения в деятельности ученика по овладению навыком?
Можно себе представить (и это будет соответствовать установившимся взглядам в психологии), что в процессе упражнения до известного предела происходит вполне осознанное выполнение действий по применению правил, во время которою усовершенствуются приемы и способы выполнения этих действий. Это усовершенствование заключается в осмысливании этих приемов, в отборе тех, которые являются наиболее экономными и эффективными. Эти приемы могут быть как чисто двигательными (например, при обучении стрельбе из винтовки), так и умственными, приводящими к формулированию определенных суждений и обосновывающими то или другое практическое действие. Таким путем создаются интеллектуальные навыки и умения.
По отношению к орфографии, как уже указывалось, – это умение осознавать грамматическую природу орфограмм, основанное на анализе слова и вычленении из его
98
состава определенной части или элемента. Это, с одной стороны, аналитический процесс, поскольку здесь происходит расчленение слова, с другой – это и процесс абстракции, поскольку из некоторого целого объекта (слова) происходит отвлечение в уме некоторой его части. Это и синтетический акт сознания в той мере, в какой в выделенной части мы узнаем некоторую общую категорию языковых явлений, подводим под определенное, например морфологическое, понятие (корень слова, окончание, падеж и т. п.).
Обучение сложному умственному действию вначале требует обычно развернутого хода рассуждения, где каждое частное действие отчетливо осознается учеником так же, как и вся система суждений, приводящая к умозаключению (например, «это предложный падеж второго склонения»). Такого рода умственную работу над определением грамматической природы орфограммы можно назвать грамматической частью орфографических навыков.
В процессе дальнейшего хода обучения начинается выпадение «из поля сознания» тех элементов сознательной деятельности, тех ее деталей, которые становятся для ученика ненужными для конечного умозаключения. Происходит своего рода отбор наиболее простых и четких признаков, определяющих узнавание и грамматическую квалификацию данного явления. Вместе с тем происходит и свертывание хода рассуждений ученика, т. е. отпадает необходимость сознательного применения всей системы умственных приемов, нужных вначале для опознавания, например, той или другой морфологической или синтаксической категории.
Этот процесс свертывания умственной деятельности недостаточно еще изучен. Каковы его основные этапы, какие звенья в первую очередь подлежат «выпадению»?
Е. В. Гурьянов отмечает следующие стадии этого процесса (применительно к выработке навыков управления самолетом): 1) предварительный, характеризующийся общим ознакомлением обучающихся со сложным действием управления, созданием предпосылок для выявления частных действий; 2) вычленение необходимых частных действий; 3) схематизация этих действий, отбор наиболее четких признаков, позволяющих осознать ситуацию полета и сведение их к минимуму; 4) объединение част-
99
ных действий в узловые, т. е. процесс обобщение, при котором обобщаются сначала наиболее элементарные действия, а затем и более сложные. Частные действия при этом начинают автоматизироваться.
В работах, проведенных под руководством П. А. Шеварева, делается попытка определить более конкретно особенности тех действий, за счет которых происходит процесс свертывания. П. А. Шеварев различает два вида суждений, функционирующих на этапе развернутого выполнения: 1) суждения, обосновывающие действия, т. е. те, которые приводят к умозаключениям, отвечающим на вопрос, почему надо действовать так, а не иначе; 2) суждения оперативные, определяющие, как надо действовать. Исследование Н. К. Индик ' проведено на материале обучения химии, однако его данные вполне возможно перенести и на обучение орфографии. В нем показано, что при применении химических понятий и формул из поля сознания выпадают прежде всего обосновывающие суждения, носящие теоретический характер, аналогичные тем, которые в орфографии относятся к указанной выше грамматической стороне навыка. Лишь затем происходит сокращение и постепенное выпадение оперативных суждений, отвечающих на вопрос, как надо действовать практически. Этот этап аналогичен тому процессу в правописании, который заключается в определении, как надо писать данную орфограмму.
Эти данные позволяют наметить основные линии изменения сознательных действий на пути к автоматизации: во-первых, постепенное уменьшение роли осознавания своих действий; во-вторых, свертывание умственных операций за счет обосновывающих, а затем и оперативных суждений; в-третьих, объединение и обобщение частных действий в более крупные по своему масштабу действия и в связи с этим расширение границ переноса; в-четвертых, усовершенствование приемов выполнения действий, отбор наиболее рациональных способов решения орфографических задач и в конце концов автоматизирование действий, при котором учащиеся пишут по правилу, не осознавая самого правила, т. е. без всяких рассуждений.
1 См.: Н. К. Инд и к, Мыслительные операции при формировании нового действия. Автореферат канд. дисс., М., 1951.
100
Физиологически механизмы автоматизации, раскрытые в трудах И. П. Павлова и его сотрудников, подтверждают правильность подобных психологических представлений о процессе автоматизации.
Как известно, И. П. Павлов относит возникновение тех действий, которые в психологии называются осознаваемыми, к отделам мозга, находящимся в. состоянии наибольшей возбудимости. Эти отделы он называл творческими. В них по преимуществу происходит замыкание новых связей, их синтезирование. Другие же отделы полушарий находятся при этом в состоянии пониженной возбудимости. «Их функцию, – пишет И. П. Павлов, – составляют ранее выработанные рефлексы, стереотипно возникшие при наличности соответствующих раздражителей. Деятельность этих отделов есть то, что мы субъективно называем бессознательной, автоматической деятельностью» '. Исходя из подобного понимания физиологической природы автоматизации, можно представить, что первоначальная стадия выработки стереотипа, соответствующая образованию орфографического навыка, происходит при повышенной возбудимости известных участков головного мозга, а в конечном итоге орфографические действия выполняются теми же участками коры, но находящимися в данный момент в заторможенном состоянии, в то время как в активном состоянии находятся другие участки мозга, связанные, по выражению И. П. Павлова, с «нашим главным делом».
Что такое толкование соответствует взглядам И. П. Павлова, видно из следующего описания выработки динамического стереотипа: «Вся установка и распределение по коре полушария раздражительных и тормозных состояний, происшедших в определенный период под влиянием внешних и внутренних раздражений при однообразной, повторяющейся обстановке все более фиксируется, совершаясь все легче и автоматичнее. Таким образом, получается в коре динамический стереотип (системность), поддержка которого составляет все меньший и меньший нервный труд»2.
Очевидно, что уменьшение «нервного труда» есть не что иное, как понижение мозговой активности, пониже-
1 И. П. Павлов, Собр. соч., т. III, кн. 1, изд. АН СССР, М.,
1951, стр. 248.
2 Т а м же, стр. 333.
101
ние возбудимости соответствующих участков коры, переходящее затем в то состояние, при котором действие выполняется автоматически.
А. Г. Иванов-Смоленский, полемизируя с ложным пониманием рефлекторного учения И. П. Павлова как учения о «бессознательной» деятельности, пишет, что этот термин неприложим к моменту образования в коре новой связи, к моменту замыкания, а также к более или менее значительному периоду времени, когда новая связь еще легко изменчива и неустойчива. «Лишь по мере возрастающего упрочения, – пишет он, – под влиянием многократного повторения реакция становится все более непроизвольной, «бессознательной» и автоматизированной (вторичная автоматизация) '.
Наконец, Н. И. Красногорский находит возможным говорить об особой «автоматической фазе рефлекса». «В этой стадии, – пишет он, – скрытый период условного ответа укорачивается, сфера динамического влияния условного рефлекса на кору суживается, и он протекает все более концентрированно, не вызывая общего понижения возбудимости коры. Вследствие этого кора как целое становится снова открытой для новой приспособительной деятельности»2.
Изложенные взгляды физиологов на образование навыков вполне подтверждают установившуюся точку зрения в советской психологии на навык как на вторично автоматизированное действие, а процесс автоматизации представляют как постепенное снижение возбудимости в участках мозга, связанных с актуализацией прежде образованных связей, причем это снижение достигается путем упрочения нервных связей, путем повторения.
Исходя из подобного понимания физиологической природы автоматизации, можно представить, что первоначальная стадия выработки орфографического навыка происходит при повышенной возбудимости некоторых участков головного мозга. Это состояние коры обеспечи-
1 См. А. Г. Иванов-Смоленский, Опыт систематического
экспериментального исследования онтогенетического развития кор
ковой динамики человека, ВИЭМ им. Горького, М., 1940, стр. 12.
2 Н. И. Красногорский, «Журнал высшей нервной дея
тельности», т. I, вып. 6, стр. 794.
102
вает активное действие сознания. При автоматизации орфографическое действие выполняется теми же участками коры, но находящимися в данный момент в заторможенном состоянии, в то время как в активное состояние приходят другие участки мозга, связанные с другими, важными для нас действиями.
Уменьшение «траты нервной энергии», о чем говорит И. П. Павлов, относится, как надо полагать, главным образом ко второй сигнальной системе, являющейся, по Павлову, «главным регулятором человеческого поведения». Этим, по-видимому, объясняются явления свертывания процессов размышления.
Отсюда вытекает, что постепенный переход от развернутого процесса суждений и умозаключений к «свернутому» процессу письма без рассуждений свидетельствует о постепенном уменьшении регулирующей деятельности именно во второй сигнальной системе. Это и приводит к тому положению, когда мы пишем по правилам, не осознавая и не вспоминая их.
Но означает ли это, что в данном случае процессы правильного письма передаются под исключительный контроль первой сигнальной системы, т. е. то, что мы начинаем руководствоваться лишь нашими восприятиями и представлениями и тем самым мы как бы совершенно (ачеркиваем грамматический опыт, полученный при обучении, и возвращаемся на первый, «дограмматический» этап усвоения? Мы полагаем, что это не так. Грамматические правила (как всякие абстракции от чувственного опыта) не могут функционировать, не будучи облечены и словесную форму. Это несомненное положение несовместимо с предположением о полной передаче регуляции процесса письма в первую сигнальную систему бессловесных нервных связей.
В той мере, в какой мы при письме осознаем смысловую сторону речи и употребляем отдельные структурные элементы языка в связи с их значением (а понимание смысла и значений есть мыслительная операция), мы не думаем о их графической форме (как они обозначаются на письме), но семантическую сторону письма мы продолжаем понимать.
Сохранение при автоматизированном письме подобного различения семантической стороны языка дает возможность различать омонимические звуковые формы,
103
например, один и тот же звук, средний между е и и, встречающийся в разных падежах имен существительных, писать либо через е, либо через и, в зависимости от падежного значения. Хотя грамотный человек не вспоминает при этом соответствующих правил и не думает о грамматической категории падежа, он продолжает понимать смысл речи, а вместе с тем те отношения между мыслимыми объектами, которые он должен выразить в письменной форме.
Так как в русском языке эти отношения выражаются падежными флексиями, то по смыслу речи один и тот же конечный звук слова обозначается в одном случае буквой и (например, письмо подруги, родительный падеж), а в другом – буквой е (письмо подруге, дательный падеж).
Таким образом, мы полагаем, что в орфографическом навыке остаются до конца не автоматизируемые элементы, которые связаны с пониманием строя языка в той мере, в какой это необходимо для правильной передачи мыслимого содержания речи. В основе такого понимания лежат ассоциации между тем или иным языковым значением и его графической формой, закрепленные в обучении.
Такое понимание процесса автоматизации вновь подводит к проблеме «чутья» или «чувства» языка, которая была поставлена в работах Буслаева, Ушинского, Пешковского. На рассмотрении этого вопроса мы остановимся позднее. Здесь же следует лишь отметить, что в нашем случае подобное «чутье» языка качественно отличается от того чутья, которым обладает ребенок до обучения грамматике. Это отличие заключается в том, что если чутье дошкольника выражается в непроизвольном правильном употреблении речевых форм, то под влиянием обучения смутное понимание семантической функции этих, форм легко может оказаться отчетливо осознаваемым, словесно выраженным и потому произвольно функционирующим.
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАВЫКА
Остановимся теперь на тех общих условиях, которые необходимы для формирования навыков. Основные из этих условий связаны с проблемами повторения и
104
овладения приемами или способами выполнения действия.
Необходимость для образования любых навыков известного количества повторений данного действия общеизвестна, но вопрос о том, какую роль они выполняют при этом, вызывает в психологии принципиальные разногласия.
Большое влияние на разработку проблемы повторения оказали исследования американских психологов, примыкающих к так называемой поведенческой школе или бихевиоризму (от слова бихевиор – поведение), и, в частности, одного из основоположников и виднейшего представителя этого направления – Эдуарда Торндайка.
Для него, как и для его последователя Уотсона, все обучение сводится к образованию навыков; при этом не делается различий между дрессировкой животных и обучением человека (основные опыты проводились над кошками, крысами и т. п.). Образование навыков происходит будто бы механически. При этом основную роль играет «закон упражнений», понимаемый ими опять-таки чисто механически как закон закрепления связи между «стимулом» и «реакцией». Образование такой связи зависит исключительно от числа повторений и не требует участия сознания. (В своих позднейших работах Торндайк стал подчеркивать и значение другого закона – «закона эффекта» выполненного действия, который понимался им, однако, опять-таки механически).
По «закону упражнений», если его конкретизировать на орфографическом материале, упражнения должны сводиться к восприятию правильно (орфографически) написанного или услышанного слова («стимул») и «реакции» – т. е. правильной его записи. Это достигается путем «частоты повторения». Никаких других функций повторение якобы не выполняет.
Таким образом, обучение орфографии сводится, по этой теории, к простому запоминанию правописания отдельных слов. Участие при этом работы мышления нацело исключается, а тем самым исключается вмешательство каких-либо обобщений, в том числе и грамматических (как результат работы мысли).
Если вспомнить то, что говорилось ранее об истории развития методических идей в России, то мы снова стал-
105
киваемся здесь с уже знакомыми нам чертами антиграмматического направления, но выращенного на психологической почве.
Новейшие психологические данные и прежде всего исследования советских психологов не подтверждают, подобной оценки роли повторений. Акт повторения оказывается гораздо сложнее, чем закрепление в памяти связи между «стимулом» и «реакцией».
Дело в том, что схема S (стимул) – R (реакция) принципиально неверна: она исключает наиболее важное опосредствующее звено – психику человека. Недаром бихевиоризм иронически называют «психологией без психики».
Для того, кто не сомневается в наличии у человека психики и сознания, регулирующего поведение, для того истинная схема должна принять следующий вид: S (по Павлову – «раздражитель», действующий на наши органы чувств) – психика (как функция мозга) – R (ответное движение или ответное умственное действие).
В этом среднем, центральном звене и происходит работа мысли, которая усложняется в зависимости от сложности раздражителя. Результаты этой обработки воспринимаемого материала сказываются и на характере реакции. Так, например, человек, не искушенный в грамматике, склонен при слуховом восприятии слов с безударной гласной («стимул») писать их так, «как слышится» («вада», «жывотное», «гарадской» (городской) и т. п.), т. е. не производя необходимой умственной переработки слухового восприятия. Человек же, имеющий соответствующие знания, прежде чем писать по слуху, подумает, вспомнит знакомое родственное слово или правило и напишет эти слова правильно, иначе, чем слышит.
Осмысление воспринимаемого материала, воздействие прежнего опыта, сохраненного в памяти, отбор в процессе повторений наиболее рациональных способов решения орфографических задач и т. д. – все это в той или другой мере происходит при повторном восприятии той же самой орфограммы как определенного раздражителя.
«Упражнение и правильно понятая и организованная тренировка – это не повторение одного и того же первично произведенного движения или действия, а повторное разрешение одной и той же задачи, в процессе
106
которого первоначальное движение (действие) совершенствуется и качественно видоизменяется» '.
О каких задачах можно говорить при обучении орфографии? Если иметь в виду овладение орфографией, регулируемой правилами, то эти задачи должны научить применению правил в практике письма, и повторяться здесь должно не написание одного какого-нибудь слова (как это вытекало бы из теорий бихевиоризма), а применение одного и того же правила к различным словам и выражениям.
Отсюда – повторение при обучении орфографии, по сути дела, является применением теоретических (грамматических, орфографических) знаний в практике письма.
Что же совершенствуется в процессе применения правил во время таких повторений? Прежде всего те мыслительные операции, которые необходимы для решения орфографических задач и которые лежат в основе приемов и способов решения этих задач. Это, как уже указывалось, анализ орфографической ситуации, операции абстрагирования, выделения из словесного контекста морфологических элементов языка, операции отнесения этих элементов к той или иной грамматической категории, выбор орфографического правила и некоторые другие.
Повторные решения орфографической задачи открывают возможности для усовершенствования подобной умственной деятельности ученика и ее постепенного свертывания. Поэтому, с психологической стороны, повторение в процессе упражнений отнюдь не является повторением в буквальном смысле слова. Знание результатов первоначального действия, сравнение повторного действия с прежним, оценка их правильности, уточнение задачи и т. п. – вот что имеет важнейшее значение для улучшения достижений.
Повторение в процессе образования навыка ценно, таким образом, не только тем, что при повторении закрепляются необходимые орфографические связи между звуковой и графической формами речи, но и тем, как эти связи образуются: не механически, а осознанно; сами же связи носят не единичный (запоминание слова), а обобщенный характер.
'С. Л. Рубинштейн, Основы общей психологии, Учпедгиз, М., 1946, стр. 556.
107
Упражнения в применении правил важны не столько тем, что закрепляют в памяти образцы написания слов, но и тем, что развивают умственные операции, те приемы мышления, памяти, которыми необходимо овладеть при выработке орфографических навыков обобщенного характера.
Обучение, учитывающее это обстоятельство, теряет свой механический характер, отупляющий ученика, и становится обучением орфографии, основывающимся на активной, сознательной деятельности учеников, повышающей уровень умственного развития.
Итак, важнейшими условиями овладения навыком являются: 1) знание правил, 2) знание приемов применения правил и умение их применять, 3) упражнения, отрабатывающие эти умения.
ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ ПРИМЕНЕНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ
ПРАВИЛ
В образовании навыка, как об этом свидетельствуют многочисленные психологические исследования, важную роль играет овладение способами или приемами выполнения действия. Это положение в одинаковой степени действительно как для выработки двигательных навыков, так и для выработки интеллектуальных умений.
Вот как описывается роль этих приемов при выработке спортивных навыков. «Основным содержанием этой стадии является овладение приемами выполнения упражнения. Перед обучающимся стоит задача: найти и закрепить наиболее эффективные движения, необходимые для правильного выполнения упражнений... По мере овладения этими отдельными приемами расчлененного анализа действия спортсмен осознает его более точно и полно»'.
«Бывают разные виды навыков. Существуют не только двигательные навыки... Имея в виду сначала более или менее сознательно вырабатывающиеся, а затем закрепившиеся, ставшие автоматическими приемы или способы мышления – определенный подход к решению встающих перед человеком задач, упрочившиеся приемы их решения и т. п., – можно говорить и о навыках мышле-
1 П. А. Рудик, Психология, Учпедгиз, М., 1955, стр. 345. 108
ния, как сторонах или моментах мыслительной деятельности» '.
Говоря о двигательных навыках, мы имеем в виду приемы выполнения движений, начиная от приемов частного характера и кончая сложными, «узловыми» движениями.
Приемы мышления (или, точнее, умственные приемы, относящиеся не только к мышлению, но и вообще к познавательной деятельности ума, памяти, восприятия, воображения и т. д.) представляют собой систему операций анализа, синтеза, абстракции, обобщения, конкретизации, необходимых для рационального решения задач различного содержания, типа и различной степени обобщенности, начиная от «узких» приемов, применение которых ограничивается решением конкретных задач данной области знаний, и кончая общими методами научного мышления.
Орфографический навык, предполагающий, как было уже показано, участие сложной мыслительной деятельности, естественно, должен быть отнесен к интеллектуальным навыкам.
Трудности в овладении орфографическими навыками зависят не только от незнания правил или грамматических понятий, но и от неумения применять их в практике письма. Педагогам-практикам известны частые случаи, когда ученики, хорошо знающие орфографические правила, тем не менее делают ошибки на эти же правила. Это по большей части происходит от их неумения практически использовать свои знания. Пользоваться правилом практически – значит рассуждать, образуя суждения о применимости или неприменимости общего правила к данному конкретному случаю, опознавать орфограммы и квалифицировать их грамматически. Все это требует сложной аналитико-синтетической работы мысли.
Мышление не сводится к знаниям, хотя знания входят и содержание мысли. Мышление – это активный процесс оперирования знаниями. Основной недостаток словесного обучения заключался в том, что знания оставались мертвым грузом в памяти ученика, так как при таком
1 С. Л. Рубинштейн, Основы общей психологии, Учпедгиз, М, 1946, стр. 555–556.
109
обучении знания не связывались с их применением. В противоположность этому развивающее обучение требует, чтобы накопленный фонд знаний приводился в движение живой мыслью ученика, чтобы возникала определенная мыслительная деятельность, принимающая форму приемов и методов мышления. Такие приемы, хорошо отработанные и прочно закрепленные, и составляют структуру интеллектуальных умений.
О каких приемах умственной работы можно говорить применительно к обучению орфографии?
Прежде всего это приемы, указывающие пути распознавания грамматической природы орфограмм, что предполагает знание признаков, присущих данной грамматической категории. Эти признаки содержатся в определении понятия, которое заучивается учащимися по учебнику. Так, например, в учебнике дается следующее определение понятия суффикса: «Часть основы, которая стоит за корнем и служит для образования слов, называется суффиксом» '.
В этом определении заключены следующие признаки суффикса:
- Суффикс находится в основе слова.
- Суффикс стоит после корня слова.
- Посредством суффикса образуются новые слова.
Для того чтобы распознать в определенной части слова суффикс, ученику требуется произвести анализ слова с целью обнаружить, обладает ли данная часть слова теми признаками, которые указаны в определении. Для того чтобы выделить в слове суффикс, ученик должен:
- Изменить слово так, чтобы отделить окончание от основы.
- В основе найти корень слова.
- Выделить часть основы, находящуюся между корнем и окончанием.
4. Подобрать другие слова с тем же суффиксом. Пример такого анализа.
1) Возчики – возчиков, возчикам – основа возчик.
2) Возчики – возить, воз – корень воз.
3) После корня остается звуко- или буквосочетание -чик.
1 С. Г. Бархударов и С. Е. Крючков, Учебник русского языка, ч. I, Учпедгиз, М., 1965.
110
4) С этим сочетанием образуются слова от других корней: лет-чик, доклад-чик, перенос-чик и т. п.
Если ученики знакомы со значением суффикса -чик, то вместо примеров словообразования может иметь место такое суждение:
Буквосочетание – чик обозначает людей по их деятельности.
Сделать умозаключение:
В слове возчик суффикс – чик.
Или возьмем для примера такое орфографическое правило:
«Существительные 3-го склонения в родительном, дательном и предложном падежах единственного числа имеют одинаковое окончание – и».
Для того чтобы применить это правило на письме, следует узнать, обладает ли данное слово теми признаками, которые указаны в правиле. Чтобы это сделать, ученику требуется прийти к ряду суждений и умозаключений.
Для анализа можно дать предложение, в котором имеется слово с пропущенным окончанием: Пастушок заиграл на свирел... .
Вот те умозаключения, которые необходимы для обоснованного установления окончания в слове свирел... .
- По слуху окончание трудно установить, поскольку оно безударное. Следовательно, здесь надо применить правило.
- Какая часть речи свирель? Это слово обозначает предмет. Следовательно, это имя существительное.
- К какой части слова принадлежит последний звук? Он изменяется при склонении (свирелью, свирелях и т. д.). Изменяемая часть слова есть его окончание. Значит, этот звук есть падежное окончание.
- Чтобы узнать, какую букву надо писать в безударном падежном окончании, надо определить, к какому склонению относится слово свирел (в – и).
- Для того чтобы узнать это, надо поставить его в именительном падеже.
- Именительный падеж – свирель. Значит, оно оканчивается на мягкую согласную.
- Но такое окончание могут иметь слова и 2-го и 3-го склонения. Следовательно, надо определить род существительного свирель.
111
8. Узнать род существительных можно подстановкой слов он, она, оно. К. существительному свирель подходит местоимение она. Значит, свирель – женского рода.
9. Чтобы узнать, какое окончание нужно писать, надо определить его падеж. Для этого нужно подобрать падежный вопрос к словосочетанию заиграл на свирел....
10. В данном случае таким вопросом является на чем заиграл? На вопросы на чем? каком? отвечает предложный падеж. Следовательно, на свирели (е – и) – предложный падеж.
11. Также надо узнать число имени существительного. Один пастушок не может одновременно играть на нескольких свирелях. Значит, здесь на свирел (е – и) – единственное число.
12. Итак, свирел (е – и) – существительное женского рода на мягкий согласный, единственного числа, в предложном падеже. К таким существительным относится правило о правописании окончания -и в родительном, дательном и предложном падежах. Следовательно, здесь надо писать -и1.
Из этого примера видно, что задача определить, как пишется окончание слова, распределяется на ряд частных задач: определение части речи, выделение морфемы, в которой заключена данная орфограмма, определение типа склонения, определение падежа и числа существительного. Все эти задачи относятся к грамматической основе правила, их решение заключается в ряде приемов или способов, применяемых учеником для того, чтобы обнаружить те или иные признаки всех этих грамматических категорий.
Перед учеником встают вопросы, как, каким способом определить часть речи, тип склонения, падеж существительного. Умению решать эти вопросы он обучается последовательно при изучении грамматики (постепенно отрабатываются те частные действия, о которых говорилось выше). Овладеть этими приемами выделения и опознавания грамматических4 категорий языка является основной задачей изучения грамматики, наравне со
' Пример в несколько измененном виде заимствован из работы С. Ф. Жуйкова «К психологии формирования орфографических навыков», «Известия АПН РСФСР», вып. 80, изд. АПН РСФСР, М., 1957, стр. 23–24.
112
знанием существенных признаков грамматических категорий. Характер мыслительных операций, благодаря которым осуществляется тот или другой способ решения орфографической задачи, во многом зависит от содержания решаемых задач и опирается на ранее полученные знания. Так, первая задача в вышеприведенном примере – определить, какая часть речи свирели – предполагает выделение в слове его грамматических признаков, присущих той или другой части речи, – это анализ с абстрагированием признаков, с отвлечением грамматического значения от конкретного содержания слова. Затем следует работа памяти: ученик должен вспомнить, какую часть речи характеризуют выделенные им признаки. На этой основе осуществляется синтез: ученик «подводит» данное слово под известное ему понятие – имя существительное.
Следующая задача: определить, к какой части слова относится данная орфограмма. Здесь снова мы имеем дело с анализом, но анализ производится с иной точки зрения – он определяется знаниями учащегося о морфологической структуре слова.
Так как искомая орфограмма находится в конце слова, то ученик может сразу же подвести ее под понятие «окончание». Однако не всякий конечный звук слова является в грамматическом смысле окончанием. Тогда ученик должен вспомнить способ анализа, который поможет ему определить, изменяется ли этот звук при склонении. Изменяется – значит, это окончание слова. Ученик подводит конкретный случай под общую категорию, т. е. снова синтетический акт.
Далее перед учеником встает новая задача. Он должен подумать и вспомнить, что для правописания окончаний нужно изменить цель анализа – узнать тип склонения. Для этого ему нужно применить определенный прием: поставить слово в именительном падеже – свирель. Затем снова происходит анализ и абстрагирование признаков слова: ученик выделяет конечную согласную, квалифицирует ее как мягкую, выделяет другой признак – род и, синтезируя эти признаки, приходит к умозаключению: свирель – 3-го склонения. Затем ставятся новые задачи – определение падежа и числа и, наконец, синтетическое умозаключение о характере правописания данного слова.
113
Какими чертами характеризуется этот процесс?
Первое, что бросается в глаза, – это расчленение общей задачи (правописание окончания) на ряд отдельных частных задач.
Во-вторых, решение этих задач в определенной последовательности.
В-третьих, опора в решении задач на прежний учебный опыт (роль памяти).
В-четвертых, при изменении направления умственной деятельности ее общий характер – аналитико-синтетический анализ, включающий в себя абстракцию; синтез, заключающийся в обобщении и выражающийся в умозаключении.
Учащемуся при решении подобного рода сложных задач, характерных для овладения орфографией, приходится, таким образом, планировать свою умственную деятельность, намечая ее последовательность, знать способы анализа слова при выделении необходимых признаков (что предполагает процесс абстрагирования) и сделать вывод, умозаключение о характере орфограммы. Все эти умственные операции относятся к грамматической части орфографического правила.
Решение чисто орфографической задачи заключается в выборе правила, относящегося к данному типу орфограмм (что предполагает твердое знание этих правил), воспроизведение нужного правила и, наконец, орфографическое действие, соответствующее этому правилу (в данном случае написание е или и).
Такое планирование умственной деятельности путем выделения частных задач в определенной последовательности и знание общих способов их решения мы будем в дальнейшем называть приемом выполнения учебных, грамматических и орфографических задач.
Анализируя процесс решения данной орфографической задачи, мы представили его протекание в развернутом виде, как бы при замедленной съемке в кино. Естественно, что в таком виде он не может осуществляться тогда, когда по характеру деятельности (например, при диктанте) требуется почти мгновенная запись текста. Как уже говорилось, характерным для навыков является свертывание мыслительной деятельности.
Это свертывание в обучении достигается постепенной отработкой отдельных частных задач, входящих в слож-
114
ное орфографическое действие. Путем грамматических упражнений автоматизируется процесс отнесения слова к определенной части речи, затем процесс определения типа склонения, рода, числа и падежа и т. д. Грамотному человеку уже не приходится задавать себе вопрос, почему свирель, например, женского рода, единственного числа и т. п., никаких последовательно решаемых частных задач он себе не ставит, т. е. он не нуждается в обосновывающих суждениях, хотя при затруднении он снова может вернуться к ним для самоконтроля. В этом и заключается конечный эффект грамматической подготовки орфографического письма. Навык, образованный механическим путем, основанный на простом запоминании правописания отдельных слов, лишен возможности самоконтроля.
Вслед за выключением обосновывающих умозаключений выпадают и оперативные суждения о том, как писать данное окончание. Как уже говорилось, в результате упражнений образуется прямая связь между грамматическим характером орфограммы и ее письменным оформлением. Возникает такое положение, при котором ученик пишет по правилу, не сознавая этого правила, и поэтому может быстро, по ходу письма, выполнять сложные учебные задания.
ГЛАВА IV
ЗАВИСИМОСТЬ УСВОЕНИЯ ОТ СВОЙСТВ РУССКОГО ПРАВОПИСАНИЯ
Для психологического исследования усвоения школь-ных знаний представляет большое значение научный анализ содержания данной науки. Исследователю необходимо знать объективные закономерности этой науки, ясно представлять себе логическую структуру основных научных понятий, их отдельные признаки, отношение их к реальной действительности и т. п. Важно это потому, что характер психологических процессов усвоения в значительной мере обусловливается содержанием усваиваемых знаний, поскольку эти знания в конечном итоге должны являться правильным отражением в сознании человека того участка действительности, который изучается данной наукой.
С этой точки зрения следует прежде всего остановиться на особенностях русской орфографии, вытекающих из ее языковой природы.
Психолога не может не интересовать вопрос, почему ребенка, вполне владеющего устной речью, надо длительное время обучать орфографическим нормам речи письменной. Ведь грамматический строй письменной и устной речи одинаков, словарный состав один и тот же. Казалось бы, что при этих условиях овладение нормами письменной, речи не составит для него особого труда. Однако это не так. Проблема грамотности письма до сих пор является одной из важнейших задач обучения. Какие же особенности орфографически правильной письменной речи порождают все те трудности обучения грамотному
116
письму, которые так хорошо известны школе? В каких объективных особенностях письменной речи заключается первоисточник всех этих трудностей?
Если вопрос поставить в такой общей форме, то дать ответ на него не затруднительно. Очевидно, что затруднения порождаются в тот момент, когда обучающемуся приходится воспринятые звуки речи, которой он свободно владеет, облекать в графическую (письменную) форму.
Если бы наше правописание было фонетическим, то все затруднения при таком переводе ограничились бы усвоением тех соотношений, которые существуют в русском письме между отдельными звуками (фонемами) и буквами как их графическим коррелятом (т. е. усвоением графики письма). Для многих случаев письма этого, действительно, оказывается достаточным. Обучаясь технике письма, школьник тем самым научается буквенному изображению звуков (фонем), находящихся в сильной позиции (гласные – под ударением; согласные – перед гласными). Но, как известно, усвоение подобной «алфавитной графики» не относится к орфографическим проблемам. Орфография в собственном смысле начинается там, где произношение расходится с правописанием, т. е. тогда, когда непосредственными звуковыми раздражителями являются звуки, находящиеся в слабой позиции (редуцированные), как например безударные гласные.
В таких случаях графическая форма расходится со звуковой, и усвоенные учениками соотношения между туками и буквами уже не могут регулировать письмо.
На какие же объективно существующие в языке при-таки можно опереться теперь ученику в его поисках правильной графической формы для звуков или звукосочетаний? Рассмотрим этот вопрос по отношению к морфологической орфографии.
Русское правописание, как известно, строится преимущественно на морфологическом принципе, что означает единообразное написание одних и тех же морфологических элементов языка, несмотря на различие в произношении. Следовательно, для того чтобы преодолеть возникший конфликт между фонетикой и правописанием, пишущему необходимо опознать в звучащей речи данный звук или звукосочетание как определенный значимый элемент речи. В этом случае он, исходя из звуковых форм языка, данных ему в восприятии, может найти
117
искомую графическую форму, не соответствующую звуковой.
Но что означает опознать тот или иной значимый элемент языка, например, ту или другую морфему? Для каждого языкового явления, будь то словосочетание, отдельное слово или морфема, характерно то, что оно представляет собой единство внешней формы и значения. Термин «внешняя форма» употребляется в самом общем смысле как материальная оболочка значений, их внешний оформитель. В устной речи эта сторона языка выступает в звуковой форме, в письменной – в графической. Но сами по себе звуки (звукосочетания) или буквы (буквосочетания) не составляют языка. Поскольку речь есть общественное явление, звуки передают речь лишь тогда, когда они выражают определенное значение, закрепленное за ними в процессе исторического развития языка. Опознать некоторое звукосочетание как языковое явление – значит увидеть в нем определенный смысл, различить его языковую функцию. Прежде всего необходимо уяснить смысл отдельных слов и предложений (то, что мы в дальнейшем будем обозначать как реальные, или лексические, значения). В обычной речи мы осознаем именно реальный смысл.
Но существуют в языке такие значения, которые можно назвать грамматическими, которые присущи данному строю языка, его грамматическим элементам. В разговоре мы их не осознаем, но при обучении грамматике и орфографии их выделение и опознание становятся необходимыми. Значения таких элементов языка весьма разнообразны. Лингвистика выделяет в слове ряд языковых значений соответственно с его морфологической структурой. Реальное значение целого слова складывается из значений составляющих его морфем. Это корни слова, которые являются носителями наиболее существенного вещественного значения слова, суффиксы и приставки, которые вносят в это значение дополнительные смысловые оттенки. Синтаксические, или релятивные, значения выражаются в языке флексиями, или окончаниями, слов, которые, не изменяя смысла слов, передают отношения между отдельными словами в предложении. Так, например, в слове подводниками – корень вод выражает основную идею слова, соотносимую с определенным явлением реальной действительности, аффик-
118
сы под- и -ник- дополняют и индивидуализируют это значение, наконец, флексия -ами в предложении Подводниками достигнуты большие успехи указывает на агента действия глагола достигнуть.
Кроме того, язык располагает средствами для выражения ряда других грамматических значений. Так, например, флексии слов одновременно с синтаксической функцией служат для различения числа и рода имен существительных, некоторые глагольные суффиксы служат для различения отдельных форм глагола (суффикс -л – прошедшего времени, суффиксы -ть, -чь – инфинитива; ряд суффиксов выражает значение действующего лица и т. п. ).
Реальные значения слов непосредственно отражают предметы, явления, события реальной действительности и являются их обобщением (словом стол мы обозначаем не только какой-нибудь определенный стол, но и стол вообще, любого размера, формы, окраски и т. п.). Слово, непосредственно соотносясь с действительностью, является абстракцией от нее.
Грамматические значения являются как бы вторым этажом абстракции, надстраивающимся над первым. Они являются отвлечением от реальных значений слов.
Та или другая морфологическая единица речи, как указано выше, выражает лишь отвлеченную идею слова (корень) отношение между слонами (флексия) и т. п. Грамматические значения не совпадают с реальными, лексическими значениями.
Как отмечалось выше, при общении внимание говорящего обращается на правильную передачу реального смысла речи. Эта сторона речи прежде всего корректируется и совершенствуется. Между тем при грамматическом анализе от конкретного смысла речи приходится часто отвлекаться, вырабатывать другое отношение к языку как к объекту изучения.
Так, например, слова бег, работа, чтение, труд, действие реально обозначают движение, действие, между тем как по своему грамматическому значению они являются существительными, обозначающими предмет (вернее – опредмеченное действие). Необходимость отвлекаться от реального значения слов представляет для детей значительную трудность при изучении грамматики.
119
Так, по данным С. Ф. Жуйкова, учащиеся начальных классов ошибочно принимали за глаголы перечисленные выше слова в следующих процентах случаев: бег – 54% , работа –63%, чтение –47%, труд –57%, действие – 33%.
Трудность грамматического анализа заключается, следовательно, в том, что грамматическая абстракция предполагает вычленение из слова или предложения не простые звуко- или буквосочетания, а только те, которые являются носителями определенных грамматических значений. Другими словами, для опознания морфемы важно, чтобы восприятие формы морфемы было в сознании ученика тесно связано с грамматическим значением. Только в этом случае можно говорить о сознательном усвоении морфологической орфографии.
Так, например, воспринимая на слух звукосочетание вад в слове водяной как корень слова, имеющий определенное вещественное значение, ученик уже не будет слепо следовать за произношением, но напишет вопреки произношению через о.
Понимание значений отдельных морфологических элементов слова является тем средством, которое позволяет преодолеть конфликт между фонетическим и орфографическим письмом.
Имея все это в .виду, можно определить первоисточник трудности усвоения орфографии. В то время как языковые значения, выражаемые в устной и письменной речи, одни и те же, форма их выражений различна. В устной речи эти формы звуковые, в письменной речи – графические. Так как господствующим принципом русской орфографии является морфологический принцип, то во многих случаях возникает противоречие между этими двумя видами форм. При сознательном усвоении орфографии это противоречие разрешается путем понимания значений различных морфологических элементов языка, которое достигается путем изучения грамматики.
Уже эти самые общие данные о языковой природе орфографии дают возможность, руководствуясь павловским пониманием обучения как образования временных связей (ассоциаций), теоретически представить механизм самостоятельного письма. При этом под термином «самостоятельное письмо» мы понимаем такое письмо, при котором в восприятии ученика отсутствуют графи-
120
ческие или акустические раздражители, правильные с орфографической точки зрения (как это бывает, например, при переписывании с образцов или при записи под диктовку с орфографическим произношением). Задача пишущего состоит в том, чтобы перевести подобные звуковые формы речи в графическую форму. Для этого прежде всего, как уже говорилось, требуется выработка чисто графических навыков или умений, т. е. умение обозначать буквами звуки, находящиеся в сильной позиции (так называемая алфавитная графика). Эти навыки основываются на выработке соответствующих звуко-буквенных ассоциаций. Так как мы обсуждаем вопросы орфографии, а не графики, то в дальнейшем мы не будем касаться этой стороны письма. Мы будем исходить из того, что эти навыки уже выработаны у учеников в период букварного обучения и последующих упражнений.
Иначе обстоит дело с графическим изображением звуков, находящихся в слабой позиции. Для того чтобы записать их в согласии с орфографическими нормами, знание алфавитной графики оказывается недостаточным.
Для начального этапа обучения характерны попытки учеников следовать в письме за фонетикой. Это установлено еще Томсоном и Богородицким и хорошо известно в школьной практике. Пишущий старается копировать особенности произносимых звуков и допускает при этом так называемые фонетические ошибки. Богородицкий отмечал при этом, что «фонетические ошибки» малограмотных обнаруживают иногда настолько тонкий анализ звучащей речи, что напоминают научно-фонетическую транскрипцию (ошибки типа «йама» (яма), «майа» (моя), «дарагайа» (дорогая) и т. п.). В основе таких написаний лежат непосредственные ассоциации между определенным звуковым раздражителем и определенной моторной реакцией: обучающийся пишет так, как слышит.
Принцип единообразного написания одних и тех же значимых элементов языка требует перестройки такой привычки.
Как при всяком самостоятельном письме исходными раздражителями и в этих случаях будут те же самые – звуковые формы слов. Однако правильная реакция письма не может уже появиться в качестве непосредственного ответа на звуковой раздражитель, как это наблюдается при фонетическом письме. Ассоциация между звуковым
121
раздражителем и графической формой опосредствуется значением той морфологической части слова, в которую входит данная орфограмма. Следовательно, для того чтобы опознать морфему, нужно узнать ее грамматическое значение, т. е. выработать связи между звуковой формой и ее значением.
Если такие связи выработаны, то правильная реакция письма следует тогда не на лишенное речевого смысла звукосочетание, а на то языковое значение, которое им выражается. Так образуется первое звено в системе тех ассоциаций, которые приводят к орфографическому письму. Это звено можно кратко обозначить как систему ассоциаций между звуковой формой и ее языковым значением. Назовем эти ассоциации грамматическими.
Но усвоение орфографии не исчерпывается подобным пониманием грамматического существа языковых явлений. С орфографической точки зрения недостаточно, если ученик будет, например, осмысливать звукосочетание вод в словах водный, вода, водовоз и т. п. как корень, имеющий определенное вещественное значение. Для преодоления влияния привычного письма по произношению актуализации связи: звуковая форма–значение недостаточно. Совершенно необходимо, конечно, знание графической формы (графемы) данного языкового значения.
Допустим, действительно, что в результате грамматического анализа достигнуто выделение той или иной звуковой формы в соответствии с ее значением, например, корня вад в слове водяной. Теперь предстоит смена форм. Звуковая форма данного языкового явления дана (вад), искомой является его графическая форма (вод). Осуществить такую смену форм можно лишь тогда, когда правильный образец (графический) знаком ученику, имеется в его памяти. Поясним это на примере. Предположим, что на уроках грамматики мы обучаем выделять морфологические элементы языка, осознавать их языковые значения и функции исключительно на материале звучащей речи (т. е. по слуху), но не знакомим при этом с графическими формами этих морфем. В этом случае, вероятно, можно научить правильному грамматическому анализу речи, т. е. вполне возможно выработать нужные ассоциации между звуковой формой этих явлений и их грамматическими значениями. Однако такое «понимание»
122
языковых форм не может само по себе обеспечить правильное написание, так как для этого необходимо знать и помнить, как эти морфемы не произносятся, а пишутся.
Поэтому вторым, необходимым звеном в системе правильных орфографических ассоциаций является выработка ассоциаций между значениями языка и их графическими формами. Другими словами, ученик должен не только уметь опознать в звучании (например, сочетания вад) его корневое значение, но запомнить, как этот корень пишется (не вад, а вод). Слуховые и слухо-артикуляционные восприятия надо перевести, таким образом, в зрительные представления, и уже в согласии с ними написать ту или иную орфограмму.
Таким образом, в процесс усвоения включается зрительная память. На начальном этапе обучения, до сообщения соответствующих правил, можно располагать в основном лишь одним средством, ведущим к запоминанию таких орфограмм – это повторение правильных образцов единичных слов, включающих данную орфограмму. По мере того как расширяются грамматические основы правописания, позволяющие учащимся обобщить правописание отдельных морфем, появляется предпосылка для выделения из целого слова его морфологических частей. Вместо того чтобы требовать запоминать целые слова и составлять словарики трудных для правописания слов и т. п., учитель начинает фиксировать внимание учащихся на правописании отдельных морфем. Для этого обычно сопоставляются слова, разнородные в лексическом отношении, но однородные по какой-нибудь одной морфологической части. Так, например, сопоставляется правописание однокоренных слов. При этом учитель обращает внимание на то, как пишется данный корень, заставляет учащихся самостоятельно записывать такие слова и т. п. Все это приводит к тому, что учащиеся запоминают графические формы тех или иных корней в связи с их значением. В дальнейшем, благодаря тому что корень имеет обобщенное значение, ученик оказывается в состоянии эти графические образцы переносить на новые, еще не изученные слова. Такое понимание природы запоминания принципиально отличается от попыток представить процесс усвоения орфографии как процесс чисто механической памяти. Как известно, Лай, например, свою орфографическую «теорию» обосновал ре-
123
зультатами опытов в запоминании слогов, не имеющих никакого смысла.
Следовательно, наряду с грамматическими ассоциациями необходимым звеном в правописании является выработка ассоциаций между значением элементов слова и их графическими формами. Назовем эти ассоциации орфографическими.
Все это говорит о роли грамматики в обучении орфографии. Грамматические знания приводят к осознанию отношения между формой (звуковой или графической) и значением того или иного значащего элемента языка. Понимая значение и функцию таких форм, ученик получает возможность узнавать и вычленять их из потока живой речи и тем самым осознавать морфологический строй языка. Благодаря грамматическим знаниям наиболее эффективно происходит образование ассоциаций между формами и значениями языка. Грамматические знания нужны, наконец, для того, чтобы навык, выработанный на их основе, имел обобщенный характер.
Мы говорили выше исключительно о морфологической орфографии, опирающейся на понимание грамматических значений отдельных морфем.
Однако орфография не ограничивается передачей значений морфем; круг значений, передаваемых ею, значительно шире. Сюда относятся интервалы между словами, что требует различения значений слов как самостоятельных лексических единиц речи.
Понимание значений целых слов требует также употребления на письме заглавных букв, которые указывают на значение единичности понятия, обозначаемого данным словом (например, птица орел и город Орел).
Употребление заглавной буквы в начале следующего предложения, дополняя роль точки, разграничивает уже не слова, а целые предложения, выражающие законченные мысли. Раздельное и слитное написание частицы не отличает отрицание от отрицательного понятия (ср.: ты мне не приятель и показался неприятель) и др.
В таких случаях выражаются значения не грамматические, орфография здесь служит для обозначения реального смысла речи такими внеязыковыми средствами, как интервал и размеры букв. Морфологической орфографией все такие случаи не назовешь. Поскольку они отражают логический смысл речи, эти орфограммы мож-
124
но назвать смысловыми. Но тем не менее их распознание основывается на образовании ассоциаций форма – значение. Только форма и значение, как мы видим, иного рода, чем в морфологическом письме.
Таким образом, те положения, которые высказаны нами по отношению к морфологической орфографии, могут быть в равной степени отнесены и к смысловой. Морфологическая и смысловая орфограммы могут быть объединены в один общий тип, который в отличие от фонетического письма условно можно именовать семантической орфографией.
Таков в общих чертах механизм процесса усвоения морфологической орфографии в том идеальном случае, когда он протекает в полном соответствии с языковой сущностью данного типа орфограмм.
Обратимся теперь к рассмотрению особенностей традиционной орфографии Конечно, как в морфологической, так и в традиционной орфографии имеется немало случаев совпадения произношения с правописанием. По отношению к таким орфограммам можно сказать все то, что уже говорилось по поводу фонетической орфографии. Поэтому в дальнейшем речь будет идти лишь о таких традиционных написаниях, особенностью которых является несответствие правописания произношению.
Однако если в морфологической и смысловой орфографии это несоответствие обусловливается смыслоразличительной функцией, которую выполняют такие орфограммы, обозначая на письме различие отдельных морфем, то традиционные, написания такой функцией не обладают. Традиционные написания не имеют грамматических соответствий в русском языке; они единичны, неповторимы, так как в своем большинстве представляют иноязычные заимствования. Поэтому их графическое изображение носит чисто условный характер (по терминологии некоторых лингвистов, они и обозначаются как «условные»). Естественно, что психология их усвоения отличается от вышеописанных двух типов орфограмм. Графическую форму таких орфограмм приходится запоминать «персонально». Однако и в данном случае мы не можем свести психологический процесс исключительно к зрительной памяти, к зрительно-двигательному навыку. Надо иметь в виду, что эти зрительные представления не
125
бессмысленны, что и в данном случае зрительные представления слова связываются с его значением. Поэтому и процессы памяти, направленные на запечатление формы слова, неотделимы от процессов понимания этих значений. Следовательно, и в случаях традиционного написания мы не можем говорить о проявлениях механической памяти. Понимание значения слова является тем процессом, который резко отделяет такие случаи запоминания от запоминания бессмысленного материала. По отношению к орфографии это хорошо известно на практике. Для педагогов азбучной истиной является то положение, что при запоминании орфографии единичных "трудных слов» в первую очередь надо знакомить учащихся с их смыслом. Без соблюдения этого правила запоминание орфографии слова представляется трудно осуществимым. Однако, несмотря на то что семантика языка оказывает свое влияние на усвоение орфограмм традиционного написания, они отличаются от семантической орфографии тем, что языковой анализ ограничивается лишь выделением целого слова, на основе его лексического значения, и не распространяется на его грамматическую структуру. Полная структура ассоциаций имеет в данном случае в качестве первого члена сложное образование: зрительное представление – значение слова. В процессе же письма образуется ассоциация между подобным семантико-зрительным представлением слова и соответствующим орфографическим действием.
Рассмотрение структуры правильных орфографических навыков с точки зрения определенной физиологической и психологической теории их образования дало возможность выделить три группы орфограмм, тип усвоения которых находится в зависимости от их объективной языковой характеристики.
Группа фонетических написаний осуществляется путем реализации ассоциаций следующей структуры: слухо-артикуляционное восприятие – зрительное представление – письменная реакция. Традиционные написания требуют образования ассоциаций типа: слухо-артикуляционное восприятие слова – семантико-зрительное представление его – письменная реакция. В основе семантической орфографии, как морфологической так и смысловой, лежат наиболее сложные системы ассоциаций:
126
слухо-артикуляционное восприятие – смысловое или грамматическое значение – зрительное представление – реакция письма. Такова схема структуры навыков, относящихся к основным трем типам орфограмм.
Все сказанное выше свидетельствует о том, что особенности языковой структуры орфографических явлений предопределяют в значительной мере психологическую сторону процесса их усвоения. Такое влияние не ограничивается теми принципами, на основании которых строится русская орфография. Различие в процесс усвоения вносится также особенностями различных правил, нормирующими правописание различных орфограмм внутри данного принципа. Поэтому является необходимым особо остановиться на роли правил в усвоении орфографии, поставив перед собой задачу выяснить, какие их особенности определяют различия в процессе усвоения.
ГЛАВА V РОЛЬ ПРАВИЛ В УСВОЕНИИ ОРФОГРАФИИ
Правила, как известно, являются средством орфографической нормализации письма. Это означает, что правила имеют практический характер, указывая, как следует писать ту или иную орфограмму.
Под правилом в широком смысле слова можно понимать всякое указание, нормирующее правописание даже отдельных слов, относящихся, например, к традиционным написаниям (аллегория – через два л).
Однако в школьной практике термин «правило» употребляется в более узком значении. Под правилом понимаются указания нормативов обобщенного характера, относящихся к целому ряду однородных языковых фактов. В этом смысле мы будем в дальнейшем употреблять этот термин.
Основное назначение правила – обобщать однородные орфограммы. Любое правило, например «жи, ши пишутся через и», или «в предложном падеже имен существительных 2-го склонения в окончаниях пишется е», или «частица не с глаголами пишется раздельно» и т. п., предполагает, что его усвоение регулирует написание не каких-либо единичных, а любых слов, относящихся к данной категории.
Благодаря такой особенности правила создающийся на его основе навык также должен носить обобщенный характер.
Соблюдение такого правила на письме должно приводить к тому, что ученик пишет «по правилу» не только слова, часто повторяющиеся в его практике, но и любое
123
слово с данной орфограммой, не встречавшееся ему прежде.
В основе такого навыка лежит психологический механизм переноса на основе обобщения. Обобщения в орфографии носят, как правило, фонетический или грамматический характер.
В правилах, подобных правилу о правописании жи – ши, эти обобщения имеют сенсорный характер – обобщается здесь определенная звуковая ситуация; в двух остальных примерах, приведенных нами, в основе правил лежат грамматических обобщения: различение и узнавание в любых словах и словосочетаниях значения предложного падежа и значения глагольности в слове, следующем за частицей не.
Для того чтобы выработать обобщенный навык, требуются упражнения, построенные на разнообразном лексическом и синтаксическом материале. Как говорилась выше, для опознания грамматической природы орфограмм большое значение имеют процессы абстрагирования. Если ученик привык применять правило к одному и тому же типу слов (например, к словам с конкретным лексическим значением), он будет испытывать определенные затруднения при встрече со словами абстрактного значения.
Один из недостатков современных учебников для начальной школы как раз заключается в подобном однообразии словесного материала упражнений. Так, например, темы, требующие опознавания имен существительных, проходятся на разборе слов, обозначающих реальные, конкретные предметы (стол, парта, лес, костер, поезд и т. п.). Узнавание категории имени существительного в таких словах не упражняет процесса отвлечения от реальных значений этих слов. Грамматическое значение предметности совпадает здесь с реальным значением слов, истинные же особенности грамматики познаются в полной мере лишь благодаря абстракции от реальных значений слов. Этот процесс остается неупражняемым, и не удивительно, что у учеников возникают ошибки при грамматическом разборе имен существительных с абстрактным значением. Такие слова, по мнению учеников (и совершенно справедливо), не обозначают предметов, которые можно «увидеть и потрогать»: радость, труд, веселье, лень и т, п. Подобный материал упражне-
129
ний не мог сформировать у школьников одну из самых важных умственных операций – грамматическую абстракцию.
Больше того, такие упражнения способствуют выработке неправильных, суженных понятий и представлений (в данном случае о категории «имя существительное»).
Это не замедлит сказаться и на орфографии.
Как известно, с личными глаголами ученики работают во всех начальных классах и в средней школе, а с безличными глаголами они знакомятся только в VI классе и весьма поверхностно. В результате учащиеся допускают разное количество ошибок в личных и безличных глаголах в одних и тех же формах.
Таблица 1
Распределение ошибок в окончании глаголов на -тся (в процентах к количеству орфограмм в диктанте)
|
Тип |
Классы |
Среднее |
||||
|
глаголов |
V |
VI |
VII |
VIII– IX |
X |
классам |
|
Личные . . . |
9 |
7,'2 |
8,2 |
3,8 |
3,2 |
6,3 |
|
Безличные . . |
28,7 |
18 |
16 |
13 |
11,3 |
17,4 |
Таблица 2 Распределение ошибок на правило правописания не с глаголами
|
Классы Тип глаголов |
V |
VI |
VII |
VIII– IX |
X |
Среднее по классам |
|
Личные |
5 12 |
0 4 |
1 6 |
0 4,5 |
0 1 |
5,1 10,6 |
Цифры обеих таблиц весьма показательны. По каждому классу количество ошибок в безличных глаголах больше, чем в личных. В среднем по всем классам в безличных глаголах ошибок по первому правилу больше
почти в три (17,4 и 6,3), а по второму в два раза (10,6– 5,1).
Такая закономерность не случайна. Безличные глаголы с трудом узнаются учащимися, потому что их значение отличается от хорошо известных им личных глаголов отсутствием указания на действующее лицо. Этого бы не произошло, если бы упражнения были достаточно насыщены соответствующими примерами.
Для того чтобы выработать обобщенные орфографические навыки, следует варьировать словесный материал, на котором ученики упражняются в применении правила. Вариация не ограничивается лишь словесным материалом. Варьировать следует характер заданий и цели деятельности учащихся. (Об этом подробнее будет изложено в главе о психологических основах орфографических упражнений.)
На процесс усвоения правил влияет также характер правил: их одновариантность или многовариантность (обычно двухвариантность).
Одновариантные правила предполагают для одной и той фонетической или грамматической ситуации один определенный вариант написания. Например, таково правило о правописании гласных после шипящих, правило о правописании наречий, оканчивающихся на "ь» (после шипящих), правописание частиц -то, -либо, нибудь, -кое, пишущихся через черточку, и т. п.
Такие правила носят универсальный характер, и их усвоение основывается на прямой ассоциации между данной грамматической категорией или фонетической ситуацией и ее письменным обозначением.
Двухвариантные орфографические правила также содержат указание на правописание орфограмм. Однако в отличие от первой группы в правиле дается несколько вариантов написания (обычно два). Выбор того или другого написания обусловливается некоторыми дополнительными (фонетическими или морфологическими) признаками орфограмм. Например, правописание приставок раз-, воз-, низ- и др. зависит от наличия в слове следующем звонкой или глухой согласной. (Дополнительный признак здесь фонетический.)
Вот еще правила.
– «В прилагательных, образованных при помощи суффикса -н- от имен существительных с основой на -н, пи-
131
шутся два к». В данном правиле, для того чтобы определить, писать одно или два н, надо привлечь дополнительные признаки слов: грамматический – найти основу и фонетический – определить конечный звук основы.
– «После шипящих мягкий знак пишется в окончаниях именительного и винительного падежей единственного числа женского рода. В существительных мужского рода 6 не пишется (рожь, но сторож)». Здесь дополнительный признак при выборе варианта правописания носит грамматический характер – род имен существительных.
Выше уже отмечалось, что знание правил облегчает запоминание образцов правильных орфограмм, поскольку этот образец дается в правиле. Указанные две группы правил сходны в этом отношении: образец письма включен в текст правила. Зная правило, ученик получает всю нужную информацию независимо от того, имеется ли в его памяти какое-нибудь слово, могущее служить для него таким образцом. Способы же получения информации более сложны и требуют активной работы мысли и оперирования грамматическими знаниями. Основное здесь, как уже говорилось, распознавание грамматической природы орфограммы и подведение ее под соответствующее правило. Такие задачи решаются путем умственных операций анализа слова, грамматической абстракции, вспоминания и выбора соответствующего правила и, наконец, определенного действия. Правильное выполнение этих умственных операций опирается на развитие у учащихся логического мышления. Обычно говорят, что действия по правилу носят дедуктивный характер – рассуждение от общего правила к частному. На самом же деле ученикам в их орфографической работе всегда приходится иметь дело е данным единичным случаем, и если этот случай для него сомнителен, то он должен решить, какое правило к нему надо применить. Поэтому при определении грамматической природы этого единичного явления ему приходится идти индуктивным путем. Он выделяет путем умственного анализа те грам-матические признаки, которые характерны для данной конкретной орфограммы, и лишь на основе этих выделенных признаков делает вывод о грамматической природе орфограммы, т. е. идет от частного к общему, что характерно именно для индуктивных умозаключений.
132
Лишь проделав такую работу, он прибегает к дедукции, рассуждая примерно следующим образом: «Наречия на шипящую пишутся с ь; это наречие на шипящую – следовательно, его надо писать с мягким знаком». Как мы видим, дедукция участвует в этом процессе лишь в конечном его звене – выборе орфографического правила. Если же ученик не распознает, например, в слове вскачь наречие, то, естественно, он будет вести поиски нужного правила в неверном направлении. Здесь обнаруживается органическая связь орфографии с грамматикой. Для орфографических целей совершенно необходима выработка умения быстро, по ходу работы (например, при диктовке) распознавать морфемы или грамматические категории. При этом надо заметить, что как при диктантах, так и при всякого рода творческих письменных работах определять все это ученику приходится либо при слуховом восприятии текста, либо при внутреннем произнесении его. Поэтому естественным кажется на занятиях по грамматике приучать учащихся производить грамматический разбор со слуха. Однако, как правило, в школе этого не делается – упражнения в грамматическом разборе ведутся по написанному и печатному тексту. Этого недостаточно, так как в наиболее сложных условиях ученики ,тем самым предоставляются споим собственным силам.
Третья группа правил – малочисленна. Она отличается от двух первых тем, что не содержит информации об образце письма. Правило сводится к рекомендации некоторого приема, применение которого может принести ученика к правильному решению орфографической задачи.
Например: – «Чтобы правильно написать безударный гласный в корне, нужно изменить слово (или подобрать другое слово того же корня) так, чтобы этот гласный отказался под ударением».
— «Чтобы не ошибаться на письме, необходимо взять другое слово того же корня. Если в корне имеется данный согласный звук, то его нужно писать и во всех производных словах того же корня».
— «Нужно отличать на письме предлоги от приставок. Между предлогом и самостоятельным словом можно вставить другое слово, а после приставки вставить слово нельзя».
133
– «Чтобы проверить, какую согласную следует писать на конце слова, нужно изменить слово так, чтобы после согласного был гласный».
Как видно из этих примеров, правила не содержат в себе никаких указаний о правильном образце орфограмм, а лишь определяют, какой «языковой эксперимент», по выражению А. М. Пешковского, должен произвести ученик для того, чтобы уже самостоятельно найти этот образец (корень слова с ударным гласным, согласный в сильной позиции перед гласным и т. п.), отличить одну грамматическую категорию (предлог) от другой (приставка).
К этому типу правил можно отнести также распространенные в школьной практике приемы «подстановки опорных слов», «проверки», «вставки» и «постановки к словам вопросов». Не вдаваясь в рассмотрение того, насколько эти приемы развивают грамматическое мышление учащихся, следует отнести их к правилам третьей группы.
Эта группа ставит, таким образом, перед учащимися задачу, отличную от первых двух. Она состоит в овладении приемом учебной работы, рекомендуемым правилом.
Наиболее легкими для применения являются правила первой группы, не ставящие перед учениками задачи выбора варианта написания. Такие правила, как правописание окончаний родительного падежа прилагательных через -ого, -его; овладение правилом письма гласной после шипящих и некоторые другие, усваиваются уже младшими школьниками без особого труда. Значительно труднее усваиваются двухвариантные правила, которые предъявляют требование не только опознать данную грамматическую категорию, но и произвести внутри нее дополнительный анализ и лишь в результате этого анализа выбрать нужный вариант; третья группа правил-приемов, как не содержащая информации об образце правильного написания, требует от учащихся произвести самостоятельную работу для отыскания этого образца.
Степень трудности для учащихся определяется здесь сложностью того приема, который рекомендуется правилом. Так, например, практике хорошо известно, что такие сходные правила, как проверка правописания без-
134
ударных гласных и проверка правописания так называемых сомнительных согласных, усваиваются по-разному; с сомнительными согласными дело идет значительно легче, чем с безударными гласными, являющимися своего рода бичом школы. Это, по нашему мнению, зависит от того, что проверка согласных в большинстве случаев происходит путем словоизменения, т. е. путем изменения одного и того же слова, а проверка безударных в корне основывается очень часто на словообразовании, т. е. на выходе за пределы лексического значения данного слова и на подборе однокоренных слов, сходных с данным словом не их реальным смыслом, а абстрактным значением корня. А это предъявляет высокие требования к абстрагирующей деятельности ученика. Усугубляется трудность тем, что в настоящее время в школе не уделяется достаточного внимания обучению школьников не только приему проверки, но и специальным приемам учебной работы по определению однокоренных слов.
Выделенными типами правил не ограничивается влияние объективного содержания правил на процессы усвоения. Следует обратить внимание и на те отношения, которые существуют в орфографии между орфограммами, относящимися к различным правилам.
Различие в трудности усвоения правил первого и второю типа можно выразить одним словом: отсутствие конкурирующих вариантов в первом и наличие таковых го втором типе. Но в русской орфографии имеются такие же конкурирующие написания, относящиеся к различным правилам. В таком случае ученикам приходится не только различать варианты одного правила, но и не смешивать эти варианты с орфограммами на другие правила. Такие трудности возникают и при применении правил первого типа. Так, например, с одновариантным правилом о написании е в дательном и предложном падеже существительных 1-го склонения и в предложном падеже 2-го склонения конкурирует правило о правописании тех же падежей в 3-м склонении, где вместо е пишется и. Однозначное правило тем самым превращается в неоднозначное.
То же самое можно сказать о правописании ь после шипящих в именах существительных мужского и женского рода, в наречиях, в кратких прилагательных, в повелительной форме. В одних случаях ь пишется, в дру-
135
гих он отсутствует. Каждое из этих правил одновариантно: в мужском роде не пишется ь; в женском роде 3-го склонения ь пишется; в наречиях на конце пишется ь и т. п., но оно становится многозначным, когда учащийся обобщает эти правила.
Уж на что универсальным однозначным кажется правило о правописании сочетаний жи – ши: #жи–ши всегда с и пиши» – так обычно формулируется это правило в начальной школе. В такой форме оно легко усваивается, уже во II классе редко вызывает ошибки. Но это происходит тогда, когда дети имеют дело с применением этого правила в изолированной виде. Но как только они встречаются со словами, в которых в безударном положении после ж и ш следует по морфологическому принципу писать в корне не и, а е, как в этих словах появляется огромное количество ошибок.
По данным Г. Г. Сабуровой1, такие слова, как жестянка, шестерка, шерстяной, дешевизна и т. п., предложенные ученикам непосредственно после изучения и закрепления правила о жи–ши, в 98% случаев писались неверно: после шипящих – через и («жыстянка», «шыстерка», «на крыши» и т. д.). В этом учащиеся нисколько не виноваты. Они хорошо усвоили преподанное им правило и писали так, как их учили. А учили их неправильно: можно сказать, что после ж и ш не пишется ы, но то, что после них пишется всегда и, это уже неверно.
Мы привели здесь несколько примеров для того, чтобы показать важность для учителя знать, с какими конкурирующими написаниями придется иметь дело школьнику при овладении всей системой русской орфографии, а зная это, не утаивать их от учащихся (как это имеет место с правописанием жи–ши), вовремя принять меры к предупреждению смешения учениками двух конкурирующих написаний. (О психологических условиях, способствующих различению сходных орфограмм, пойдет речь в последующих главах.)
Какие же особенности орфограмм могут внушать ученикам мысль о их сходстве? Этот вопрос в достаточной
1 См.: Г. Г. Сабурова, Психологические особенности этапов применения некоторых орфографических правил учащимися начальных классов. Сб. «Психология усвоения грамматики и орфографии», под ред. Д. Н. Богоявленского, т. II, изд. АПН РСФСР, М., 1961.
136
мере еще не научен. Теоретически можно предположить, что смешению орфограмм содействуют следующие условия:
1) Сходство или даже тождественность их звучащих форм (произнесения). Например, безударное е в слове шестерка после шипящих, произносится примерно так же, как и под ударением (шили).
2) Сходство грамматических или смысловых значений орфограмм. Например, правописание е или и в одних и тех же падежах 2-го и 3-го склонения. Одно и то же значение показному оформляется орфографически.
3) Сходство графического обозначения при различном грамматическом значении. Например, употребление и неупотребление ь в словах разных грамматических категорий после шипящих (существительные 1-го и 2-го склонения, краткие прилагательные, повелительная и неопределенная форма глаголов» наречия). Один и тот же вопрос о мягком знаке при тождественном звучании решается по-разному в зависимости от различий грамматических значений морфем.
ГЛАВА VI ПИСЬМО ПО АНАЛОГИИ
Если рассматривать правописание исходя из способа, каким ученик получает информацию о правильном образце орфограммы, то следует выделить еще один способ – письмо по аналогии.
Отличие такого письма от письма по правилу состоит в том, что пишущий не получает образца орфограммы, вспоминая правило, в тексте которого заключен этот образец, а отыскивает его среди слов, правописание которых для него не вызывает сомнений и хорошо сохранилось в памяти.
В данном случае возникают прямые ассоциации между записываемым словом и каким-нибудь другим словом (или словами) без посредства обобщающего правила.
Таким способом ученик может, например, правильно, не зная еще правила о безударных гласных, написать корень вод в слове водяной, ассоциируя его со знакомыми ему словами вода, водичка, воды и т. п. Но он может ошибиться, если, например, корень в слове удивительно вызовет в его памяти слова дева, девочка и т. д. Такие ошибки хорошо известны в школьной практике под именем ложной аналогии.
Аналогия здесь выступает в открытой форме: она становится явной благодаря своей ошибочности, что, конечно, не исключает того, что подобной аналогией ученик руководствуется и при правильном письме, при котором внутренние процессы мысли ученика остаются скрытыми от глаз педагога.
138
Но при ошибочной или правильной аналогии психологический механизм остается тождественным: образец орфограммы добывается учеником путем вспоминания отдельного слова. Ассоциации в обоих, случаях возникают между словами и могут быть представлены в виде схемы: единичное – единичное.
Такие ассоциации в отличие от ассоциаций, образующихся на основе правил, условно назовем межсловесными.
Не может не бросаться в глаза сходство подобного механизма возникновения межсловесных ассоциаций с процессом письма по правилу о безударных гласных. Действительно, правило о проверке гласных предполагает такой же способ добывания информации о правильном образце: там тоже ученик ищет слово-проверку. Но эти поиски регулируются двумя условиями: слова-проверки должны быть однокоренными (грамматическое условие) и должны иметь ударение на гласной корня (фонетическое условие). Благодаря этому создаются ассоциации грамматически направленные, что должно предупредить возникновение случайных ассоциаций.
Механизм грамматически направленной аналогии лежит в основе целого ряда приемов, рекомендуемых методиками и известных как «подыскивание опорных слов» или «прием подстановки». Такие приемы рекомендуются по отношению к правописанию падежных окончаний прилагательных, существительных и личных окончаний глаголов. Дается и общее правило: "Безударные окончания пиши так, как пишутся ударные окончания в словах, относящихся к одной и той же грамматической группе (на башне – на стене; красная, синяя– голубая; видишь – сидишь») 1.
Для того чтобы направлять межсловесные ассоциации, ученику необходимы грамматические знания. Это вполне естественно: опирается ли ученик при поиске нужного образца на правило или использует аналогию,– первым эвеном орфографических ассоциаций является опознание данной морфемы. Прав поэтому М. В. Ушаков, когда он замечает: «Чтобы правильно промерить форму к деревне при помощи к земле и чтоб не
1 С. П. Редозубов, Методика русского языка в начальной школе, Учпедгиз, М., 1950, стр. 132.
139
проверить к лошади при помощи того же к земле, надо прежде всего знать, что существительные лошадь и земля разных склонений»'.
Механизм аналогии, однако, имеет для усвоения орфографии значительно более широкое значение по сравнению с грамматически направленными ассоциациями. По-видимому, его необходимо привлечь для объяснения так называемых дограмматических ассоциаций, приводящих к правильному письму без изучения грамматики и орфографических правил. Действительно, учащиеся до изучения соответствующих разделов грамматики пишут, однако, правильно те или другие орфограммы. Что это действительно так, показывают данные С. Ф. Жуйкова. Автор, основываясь на большом статистическом материале, установил, что ученики III класса еще до изучения соответствующих правил писали правильно свыше 79% безударных падежных окончаний существительных (е–и) в понятных и около 73% в незнакомых им словах. Такой процент успешности письма нельзя считать случайным.
Возникают два вопроса: 1) откуда ученики могли узнать правильные образцы орфограмм; 2) чем они могли руководствоваться при выборе одного из двух одинаково звучащих окончаний (е – и).
Очевидно, что в практике письма и чтения с этими окончаниями они встречались многократно и эти образцы закреплялись в памяти., встречаясь же с новым словом (даже незнакомым для них) они писали по аналогии с этими образцами. Но почему они избирали верный вариант из двух возможных, т. е. почему их ассоциации оказывались правильно грамматически направленными?
Некоторый свет на подобные факты дограмматического усвоения могут пролить следующие опыты, проведенные нами с написанием незнакомых слов с безударной гласной в корне.
С этой целью нами были взяты 4 слова: копчушка, выползок, приготовишка, покойницкая. Корни двух из этих слов были непроверяемыми (покой и готов), а двух других – проверяемыми (полз – и копч (т).
1 М. В. Ушаков, Методика правописания, Учпедгиз, М., 1947, стр. 68.
140
В пяти классах (II-Ш) с этими корнями была проведена некоторая подготовительная работа, в двух (тех же) классах такой работы не проводилось.
По существовавшим в то время программам понятие корня во вторых классах, не изучалось, а в третьих классах еще не было закреплено упражнениями.
Предварительная работа началась с проведения диктанта, в текст которого были включены по два слова, производных от данных корней, но вполне знакомых и понятных учащимся. Например, копоть и копченый, спокойно, покой, готовый, готовиться и т. д. Через два дня был проведен первый урок, посвященный исправлению ошибок в этих словах. На уроке ученики писали эти слова, выделяя корень, к проверяемым словам находили слова-проверки, а затем ко всем словам коллективно подбирали «родственные» (термин для II класса), «однокоренные» (для III) слова. Все эти слова учениками записывались в тетради, и в каждом из них путем подчеркивания выделялся корень. Подобная же работа была проведена еще раз через два дня. Таким образом, учащимся была дана возможность составить понятие об обобщенном значении корня, а также о его правописании. Через определенное время (13 дней), в течение которого ни в классных, ни в домашних работах слова с данными корнями не употреблялись, во всех классах был проведен диктант со включением указанных выше контрольных слов, незнакомых учащимся. Никаких указаний на связь диктанта с предыдущей работой с этими корнями не делалось. Для того чтобы учащиеся имели возможность самостоятельно устанавливать значение корней этих слов, значение слов объяснялось следующим образом:
а) Покойницкая – это помещение, куда кладут покойников. А почему так называют умерших? Потому что умерший навсегда успокоился, лежит покойно.
б) Приготовишками называли раньше учеников приготовительных классов, потому что они еще только готовились к настоящему учению (в I классе), приготовляясь к нему, учились читать, писать, считать.
в) Копчушки – небольшие рыбы, продающиеся в магазинах; они копченые, поэтому и называются копчушками.
141
г) Есть такие червяки, которые после дождя любят выползать из-под земли; они ползут по траве, по дорожкам, поэтому такие черви называются выползками'.
Объяснения (без отступлений от текста) повторялись учителем дважды перед диктантом. Все эти работы проводились учителями по заранее разработанной, одинаковой методике в присутствии экспериментатора. Опыты охватили 177 учеников, прошедших все этапы работы.
Диктовка дала следующие результаты.
Таблица 3 Распределение ошибок при письме незнакомых слов
|
Слова |
Абсолютное количество ошибок |
Средний процент ошибок |
|
|
Непроверяемые ударением |
Покойницкая |
6 |
3,4 |
|
|
Приготовишка |
1 |
0,6 |
|
Проверяемые ударением |
Копчушка |
41 |
23,7 |
|
|
Выползок |
8 |
4,5 |
Из этой таблицы видно, что в трех незнакомых словах учащиеся допустили ничтожное количество ошибок (0,6, 3,4 и 4,5 процентов). Лишь слово копчушка дало повышенный процент ошибок (около 24%), что, по нашему мнению, следует объяснить отдаленностью реального значения слова от типичного проверочного слова копоть, а также чередованием звуков в данном корневом гнезде: копот – копт – копч. Но даже и этот процент ошибок далек от того, чего следовало бы ожидать, если бы ученики писали эти слова наугад. Отметим также, что проверяемые слова не оказались в особом привилегированном положении по сравнению с непроверяемыми.
Результаты проведения того же диктанта в тех классах, где подобная предварительная работа не проводилась, были иными. (В опытах участвовало 76 учащихся
1 В объяснении слов не употреблялись однокоренные слова с ударными корнями.
142
II класса, прошедших раздел программы: «Родственные слова».)
Этот диктант дал следующие результаты.
Таблица 4
|
Слова |
Абсолютное количество ошибок |
Средний процент ошибок |
|
|
Непроверяемые ударением |
Покойницкая |
47 |
60,2 |
|
|
Приготовишка |
25 |
34,2 |
|
Проверяемые ударением |
Копчушка |
60 |
80,0 |
|
|
Выползок |
28 |
36,8 |
Как мы видим, количество ошибок в корнях незнакомых слов во много раз превышает количество ошибок в первом диктанте.
Как можно понять эти результаты?
Во-первых, следует отметить, что правильное написание незнакомых слов решительно опровергает механистические теории «образов целых слов», так как учащиеся этих слов никогда не видели и, следовательно, никакого «образа» в памяти иметь не могли.
Во-вторых, что для нас в данное время более важно, очевидно, что учащиеся писали правильно не случайно, а потому, что уловили какое-то сходство между знакомыми им словами в предварительных упражнениях и контрольными незнакомыми словами.
Но что же «знакомого» могли найти ученики в новых, никогда не виденных и даже не слышанных ими словах?
Как пишется корень в незнакомых словах, они не знали – это была та задача, которую им предстояло решить. Единственным «знакомым» элементом могло быть в данном случае значение корня. Однако, предположим, что семантика языка не играла в сближении слов никакой роли, а на успешность письма оказали влияние какие-то более привычные, чаще встречающиеся в практике письма буквосочетания, не имеющие смысла. Например, в слове копчушка ученики правильно писали коп якобы потому, что это буквосочетание чаще встречалось
143
им, чем кап; или сочетание пол (в слове выползок) – чаще, чем пал, и т. д. Мы просмотрели по толковому словарю под редакцией проф. Д. Н. Ушакова все доступные детям слова р подобными буквосочетаниями. За исключением приставки по-, очень распространенной в русском языке в начале слов, по отношению к другим сочетаниям в этом случае не удалось установить какой-нибудь определенной тенденции. Таким образом, если даже допустить влияние приставки по- на правописание слова покойницкая, то по отношению к другим словам это предположение не имеет под собой фактической основы. Следовательно, нельзя объяснить успех в написании незнакомых слов образованием чисто внешних связей, безотносительных к семантике языка.
Можно предположить сначала самое простое, а именно, что это «знакомое» дети находили в лексических значениях слов (мы употребляем этот термин для обозначения смысла целых слов, обозначающих определенные понятия). Однако простое сравнение значений незнакомых слов и тех, которыми ученики оперировали в предварительных опытах при подборе корневых гнезд (т. е. слов, имеющихся в словаре ребенка), не позволяет допустить и этого предположения.
Действительно, такие слова, как покойницкая и покой, спокойно, покойный (типичные для лексики учеников) ; выползок и полз, ползать, ползучий; копчушка и копоть, коптеть; приготовишка и готов, готовиться и т. д., по своим лексическим значениям, по тем предметам или понятиям, которые они обозначает, с житейской точки зрения очень мало похожи друг : на друга (покойницкая– дом; покой – состояние; копчушка – рыба; копоть– сажа и т. д.). Остается единственно возможное объяснение: очевидно, что ученики руководствовались здесь не столько сходством конкретных понятий, обозначаемых словом, сколько сходством корневых значений, т. е. той общностью смысла, которую придает однокоренным словам их корневая часть. Такое понимание общего смысла слов, несмотря на различие их лексических значений, предполагает необходимость абстрагирования и обобщения значения корня. Необходимым условием этого понимания является также понимание целых слов, так как корень в производных словах приобретает свое значение только в целом слове. Таким образом, единст-
144
венно возможное объяснение правильного письма незнакомых слов можно дать, лишь признав, что в основе этого процесса лежит образование межсловесных связей на основе сходства корневых значений «незнакомых» и «знакомых» слов.
Образование таких смысловых ассоциаций приводит к переносу представления о графической форме корня, усвоенного в предварительных упражнениях, на новые слова. Весь процесс письма незнакомых слов может, следовательно, быть выражен в такой схеме: запоминание графической формы в связи с его значением -» установление сходства семантики корней незнакомых слов со знакомыми -> перенос графической формы корня из одной словесной ситуации в другую. Таков, по нашим данным, психологический механизм так называемого письма по аналогии.
В этих опытах можно, таким образом, усмотреть все звенья грамматически направленной аналогии.
В предварительных упражнениях формировалось первое звено. Хотя значение корня и не раскрывалось учениками в словесной форме, но, очевидно, ими улавливался общий смысл при сопоставлении различных однокоренных слов. Выделение и подчеркивание общих частей слова содействовало запоминанию их графической формы. Благодаря общности семантики корней в не-знакомых словах и знакомых появлялась возможность правильной, грамматически направленной аналогии без владения какими-либо теоретическими знаниями. Очевидно, что здесь мы имеем дело с тем, что Ушинский и другие называли «чувством» или «чутьем» языка. Мы видим, что в данном случае в основе таких явлений решающую роль сыграло понимание общности значений корней слов. (Ввиду необходимости иметь более точные данные о психологическом механизме такого чутья, мы отложим рассмотрение этого вопроса до одной из следующих глав.)
Однако на пути установления межсловесных связей, лежащих в основе аналогии, учащимся встречается, ряд трудностей, которые часто приводят к появлению ложных аналогий. Педагогу важно знать, в чем они заключаются, для того чтобы узнать причины этих затруднений, иметь возможность предупредить ошибки учащихся.
145
Основной материал нами получен при изучении овладения учащимися правописанием безударных гласных.
Изложение экспериментальных данных начнем с опытов, проведенных нами с учениками I класса. Первоклассники были интересным объектом для исследования, представляя собой в грамматическом отношении почти нетронутую почву. Некоторые сведения о предложении, о словах-названиях и т. п. сообщались им чисто пропедевтически. Никаких сведений, ни теоретических, ни практических, о составе слов учащиеся не имели. Не знакомились они и с правилом о безударных гласных. По орфографии ученики изучали главным образом звуковое письмо: написание твердых и мягких согласных; букв е, ю, я, э; ь в конце и середине слов и т. п.
Целью опытов было изучение процесса подбора родственных слов, для того чтобы выяснить характер межсловесных ассоциаций учеников в его, так сказать, «чистом» виде, не затушеванном различиями в предшествующей грамматической подготовке учеников. Совместно с учителями нами была разработана методика пропедевтических упражнений в подборе однокоренных слов, был установлен материал исходных слов-раздражителей. Занятия по подбору слов проводились в двух отделениях I класса одной из московских школ, руководимых одной и той же учительницей.
Экспериментальные занятия начались в IV четверти учебного года. До этого экспериментатор часто посещал класс, помогал учительнице, беседовал с учениками. Дети вполне освоились с ним и совершенно перестали его стесняться (очень важное обстоятельство для успешности проведения индивидуальных бесед с учащимися).
Всего в классе в течение полутора месяцев занятий был проведен подбор родственных слов к 32 словам. Все исходные слова были хорошо знакомы детям. На уроке давалось для подбора два-три таких слова. Исходные слова предъявлялись учителем устно. По очереди вызывались желающие отвечать. Экспериментатор записывал детские ответы. Работа нравилась ученикам.
Каждый ученик говорил лишь одно слово, а затем уступал свою очередь следующему. Имея в виду орфографические цели, некоторые из придуманных слов учитель записывал на доске, подчеркивал корни слов, обращая внимание детей на орфографию корня, и, подво-
146
дя их к обобщению, давал следующую формулировку: «В похожих по смыслу словах сходные части пишутся одинаково».
Результаты этих классных опытов показали, что дети, несмотря на отсутствие у них каких-либо теоретических понятий о составе слова и о корне, поняли задание– «подобрать похожие по смыслу слова» после 2– 3 примеров, приведенных учителем, и в дальнейшем активно и. с большой охотой участвовали в работе. Количество ошибок, допущенных при этом учащимися, было сравнительно незначительно. Приводим их полный список (в таблице слева направо: порядковое место слова в экспериментах, исходное слово-раздражитель, ошибочный ответ).
Таблица 5
Список ошибок при подборе родственных слов
|
Порядковый № слов |
Слова-раздражители |
Ответное слово |
Порядковый № слов |
Слова-раздражители, |
Ответное слово |
|
1 |
Коньки |
Кукла |
16 |
Холодная |
Морозный |
|
4 |
День |
Деньги |
17 |
Вода |
Воды |
|
|
|
|
|
|
Водик (?) |
|
6 |
Бегать |
Едут |
|
|
|
|
7 |
Солнце |
Соль Сила |
18 |
Река |
Ручеек Море |
|
|
|
Сон |
|
|
Водолаз |
|
8 |
Свет |
Цветы |
22 |
Летает |
Парашют |
|
10 |
Большая |
Бомбарди- |
24 |
Светило |
Лампа |
|
|
|
ровщик |
|
(о солнце) |
|
|
|
|
Больной |
|
|
|
|
11 |
Лед |
Лен |
25 |
Дорога |
Домой |
|
12 |
Возили |
Вожжи |
28 |
Жили |
Желе |
|
13 |
Корм |
Корка |
30 |
Береза |
Бирюза |
|
14 |
Коса |
Кость |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Нос |
Носила |
|
|
|
|
|
|
Нес |
|
15 |
Метет |
Метка |
|
|
|
Всего ошибочных ответов было 25. Происхождение ошибок не во всех случаях очевидно: по-видимому, в некоторых случаях между словом-раздражителем и ответной реакцией ученика имелись пропущенные звенья. Но большинство ошибок следует отнести или за счет непра-
147
вильного
сближения
слов по чисто
внешним
признакам
(сходство звучания или написания, например, день-деньги, солнце-соль, лед-лен, жили-желе и т.п.) или за счет смысловой близости лексических значений слов (например: бегать-едут, холодная-морозный; река– море); или, наконец за счет включения слов в одну и ту же наглядную ситуацию, (например: летает-парашют; дорога–домой; коньки– кукла). Но каковы бы ни были причины этих ошибок, в действительности все они показывают, что межсловесные ассоциации возникали в этих ошибочных случаях не на основе понимания значения корня, а на основе каких-либо других несущественных для грамматики признаков, одни из которых относятся к внешней стороне слов, а другие – к реальному значению слов.
Для того чтобы уточнить характер этих ошибочных ассоциаций, мы провели с учениками этого класса дополнительные индивидуальные опыты. В этих опытах учащимся (каждому в отдельности) давали два задания: во-первых, самостоятельный подбор родственных слов (такая же работа, как и в классных опытах); во-вторых, подбор однокоренных слов из текста, который состоял из изолированных слов разных корней (в перетасованном порядке). По ходу выполнения этих заданий экспериментатор вел беседу, стараясь вызвать учащихся на объяснения по поводу подбираемых ими слов. Во время этих бесед экспериментатор предлагал ученику для оценки дополнительные слова, анализ которых помогал определить степень устойчивости критериев оценки слов учащимися.
Индивидуальные опыты были проведены с 31 учеником данного класса. Лишь один ученик, сильно отстающий и недостаточно развитый, не мог дать ответов по поводу этих заданий. Результаты опытов с ним поэтому исключены из обработки. Все остальные в достаточной мере активно участвовали в беседе.
Обратимся к анализу этих данных. В первую очередь рассмотрим результаты самостоятельного подбора родственных слов.
Исходными раздражителями служили три слова: часы, жара и гора.
Надо заметить, что условия подбора слов в индивидуальных опытах отличались от классных тем, что в то
148
время как в классе ученик мог ограничиться при подборе только одним словом, сразу пришедшим ему в голову, в индивидуальных опытах экспериментатор давал инструкцию «Придумать все слова, какие ты можешь» и во время опыта при затруднениях ученика неоднократно
требовал продолжать подбор. Мы ввели это изменение для того, чтобы проследить, каким образом отразится постепенное истощение запаса слов ученика на характере словесных ассоциаций. При анализе ошибок учащихся это обстоятельство следует учесть. Поэтому мы приводим количественную сводку ошибок по каждому из первых трех слов, подобранных учащимся, и отдельно по всем остальным. Нижеследующая таблица дает об этом представление.
Таблица 6
Распределение ошибок по порядку слов
|
Общее количество ошибок |
В первом слове |
Во втором слове |
В третьем слове |
В остальных словах |
|||||
|
Аб- сол. кол. |
%%
|
Аб- сол. кол. |
%%
|
Аб- сол. кол. |
%%
|
Аб- сол. кол. |
%%
|
Аб- сол. кол. |
%%
|
|
52 |
100 |
4 |
7,7 |
10 |
19,2 |
20 |
38,4 |
18 |
34,8 |
Как видно из этой таблицы, ошибки распределяются и нарастающем порядке от первого слова к последующим; причем количество ошибок в третьем слове ассоциированной цепи слов в пять раз превышает ошибки в первом слове. Уменьшение количества ошибок в остальных по порядку словах (34,8%) по сравнению с третьим словом (38,4%) в данном случае непоказательно, так как большинство учащихся не давали при подборе более грех слов. Эти данные указывают, что правильность в подборе родственных слов в значительной степени зависит от наличного запаса слов у учеников.
Вот те ошибки, которые были допущены учащи-мися в индивидуальных опытах. (В скобках указывается количество повторений данного слова у разных учащихся.)
149
К слову час:
|
чашка чайник чин читают |
3 2 1 1 |
чистый черта часть |
1 1 1
|
чего минута секунда |
1 1 1 |
чугун |
1 |
К слову жара:
|
жук журавль жаба жалко |
1) (2) (2) 1) |
жгет жир жирный |
(2) (3) (1) |
К слову гора:
|
горький горько горчит горесть |
(3) (5) (1) (1) |
горит горела горек город горелка |
(2) (2) 1) (1) (1) |
горлица горечь горе горло Гаррик |
1 1 1 1 1 |
Среди этих слов выделяются прежде всего, как и в классных опытах, ассоциации, навеянные, по-видимому, внешней аналогией. Их огромное большинство (типа час – чай и т. п.). Лишь одну ассоциацию жара– жгет (искаженное жжет) можно отнести к ситуативному сближению слов и две (час – минута; час – секунда) – за счет сближения слов по их реальным значениям.
Однако для окончательного суждения о характере образования межсловесных ассоциаций следует обратиться к анализу ответов учеников в беседе с экспериментатором.
Анализ этих данных приводит прежде всего к выводу, что тип ошибок является в той или иной степени устойчивым для того или иного ученика. Это позволяет говорить об индивидуальных особенностях учеников, про являющихся в типе их межсловесных ассоциаций. Имеющийся материал позволяет выделить по этому признаку три группы учащихся.
Первую из них характеризуют ассоциации по сходствy внешней формы слов–для краткости назовем таких учеников «формалистами". Из общего числа 30 учеников их оказалось 13.
Вторую группу характеризуют ассоциации по сходству понятий или предметов, обозначаемых словом, т.е. по сходству реальных значений целых слов, или по ситуативному сближению. Назовем этих учеников «наивными семантиками». В эту группу входит 12 человек.
Ученики, относящиеся к ней, не обладают устойчивостью, в типе ассоциаций. Наивно-семантичное обоснование подбора слов перемежается с формальными оценками. Таких учеников было всего 5 человек. Рассмотрим мотивировочные суждения «формалистов». Приведем выписки из протоколов опытов.
Ученица X. подбирает слова к слову часы.
Ученица. Час, что.
Экспериментатор. Почему что?
Ученица. Потому что ч. Одно и то же, что что, то и часы.
Экспериментатор. А похоже ли слово часы– часовой?
Ученица. Похоже, слышится то же.
Экспериментатор. А часовщик?
Ученица (та же мотивировка).
Экспериментатор. А слово чугун?
Ученица. Похоже, потому что ч.
Экспериментатор. А слово Ваня?
Ученица. Непохоже, потому что другая буква.
Подбор к слову жара.
Ученица. Жарко (долгая пауза), очень жарко.
Экспериментатор. Ну, а слово жарит: мама жарит картошку. Подойдет?
Ученица. Жарит похоже, потому что буква ж.
Экспериментатор. А жук?
Ученица. Тоже подходит.
Дается упражнение на выбор родственных слов к слову соль из следующего текста: соль, солонка, посолить, стол, солонина.
Ученица. Солонка подходит, потому что слышится С.
Посолить – нет, потому что здесь слышится первая буква п, а там первая буква с.
Стол– не подходит.
Экспериментатор. Почему?
Ученица, (долго думает, но молчит). Солонина - тоже не подходит (тоже объяснить не может).
Из этого протокола видно, что ученица судит о сходстве слов по внешнему сходству первых звуков или букв слов. Однако чересчур резкое расхождение значений слов (стол, солонина) ее затрудняет. Она уже не делает
151
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|





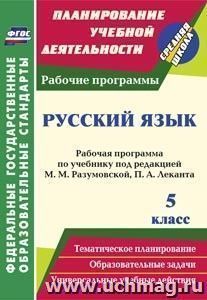

 ГИА 2015. Русский язык. 5 класс. Диагностические и контрольные работы для проверки образовательных достижений школьников - Степанова Л.С. | Купить книгу с доставкой | My-shop.ru Цена 100 руб.
ГИА 2015. Русский язык. 5 класс. Диагностические и контрольные работы для проверки образовательных достижений школьников - Степанова Л.С. | Купить книгу с доставкой | My-shop.ru Цена 100 руб. Проверочные работы по русскому языку. 5 класс. К учебнику Т.А. Ладыженской. ФГОС - Макарова Б.А. | Купить книгу с доставкой | My-shop.ru Цена 54 руб.
Проверочные работы по русскому языку. 5 класс. К учебнику Т.А. Ладыженской. ФГОС - Макарова Б.А. | Купить книгу с доставкой | My-shop.ru Цена 54 руб.  Зачетные работы по русскому языку. 5 класс. К учебнику Т.А. Ладыженской "Русский язык. 5 класс". ФГОС - Потапова Г.Н. | Купить книгу с доставкой | My-shop.ru Цена 71 руб.
Зачетные работы по русскому языку. 5 класс. К учебнику Т.А. Ладыженской "Русский язык. 5 класс". ФГОС - Потапова Г.Н. | Купить книгу с доставкой | My-shop.ru Цена 71 руб.